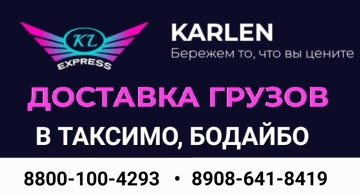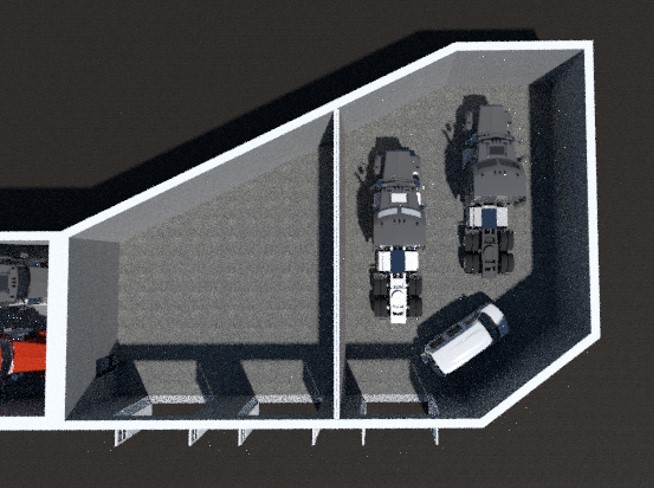ГОД ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
АЛЬМАНАХ ДЕСЯТЫЙ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ: М. ГОРЬКОГО,
Л. АВЕРБАХА, Е. ГАБРИЛОВИЧА,
В. ЕРМИЛОВА, В. С. ИВАНОВА,
В. КИРПОТИНА, П. ПАВЛЕНКО,
Н. ТИХОНОВА, А. ФАДЕЕВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1936
В. Селиховкин
Золото[1]
(Записки инженера)
Глава первая
Апрель 1922 года.
Недавно пущенный скорый поезд Москва—Владивосток медленно подходит к Иркутску. Мы почти у цели. Еще один этап — сухопутный и водный путь по Лене и Витиму — и Горная академия завоюет ленские золотые прииски, исконную вотчину петербуржцев и томичей. Да здравствует Горная академия!
Нас четверо студентов-горняков. В разношерстной живописной одежде — папахах, военных шинелях, старых студенческих пальто, порыжевших куртках, английских ботинках, ярко-синих французских военных штанах — мы вышли из вагона с рюкзаками на спине и постелями в руках. С любопытством и некоторым трепетом направились мы с вокзала через понтонный мост на Ангаре в Иркутск, где еще так недавно закончил бесславную жизнь «правитель Сибири» адмирал Колчак.
Иркутск начал оживать. Грязные улицы с потемневшими от времени и копоти деревянными домами полны народа. Движутся бесконечные обозы, галдит разноязычная толпа. Через Иркутск проходят тысячи рабочих на прииски и с приисков.
Контора треста Лензолото. Протиснувшись сквозь толпу, попадаем к заведующему Ощепову. Называем себя, показываем документы. Несколько недоуменных взглядов на нас и на документы. Наконец обещают отправить дня через три на машине в Качуг — первую пристань на р. Лене. Получаем практические советы, где устроиться в Иркутске и чем запастись на дорогу.
20 апреля мы погрузились в старый разбитый ковчег, кое-кем всерьез называемый автомобилем. Якутский грунтовой тракт на Лену, проходящий по бурятской степи, местами был сплошным болотом. Только на седьмые сутки, не раз вытаскивая машину из грязи, мы одолели двести восемьдесят километров, отделяющих Качуг от Иркутска.
Лена в верховьях только что прошла. Готовились я погрузке карбасов — неуклюжих посудин в форме утюга, которые с грузом в сорок—пятьдесят тонн отправляются самосплавом вниз по воде. Карбас управляется двумя огромными веслами — «гребями» из целых бревен и рулевым «пером», тоже из целого бревна. В верхнем плесе — от Качуга до Жигалова каждый карбас идет под управлением особого лоцмана. В Жигалове карбасы связываются тупыми концами по два, а в Устькуте по четыре. Четверка карбасов носит название «связки».
Грузили муку, овес, сахар, железо. Больше всего нам нравилось грузить трехпудовые кули овса — для отощавшего на московской диэте студенческого организма пятипудовые мешки сахару были тяжеловаты...
12 мая в качестве гребцов мы, трое москвичей и один томич, отплыли на груженом карбасе. Четвертый москвич, одетый «прилично», с общего согласия устроился на пароходе.
Лена — одна из красивейших рек нашей родины. В верховьях она сжата высокими хребтами, покрытыми девственным хвойным лесом. Вдоль скал вьется ленточка якутского тракта.
Река в верховьях мелководна. Но во время таяния снегов на склонах и вершинах Байкальских гор она вздувается, покрывает в низких местах берега и сумасшедше катит волны в океан. Бурные периодические разливы ее происходят раз в пятнадцать—двадцать лет. Они служили прежде опорными точками летоисчисления среди приленских крестьян: время считалось от наводнения к наводнению.
Первые четыреста пятьдесят километров сплавного пути по Лене, особенно на плесе Качуг-Жигалово, изобилуют узкими, быстрыми, но маловодными перекатами, трудно проходимыми для карбасов и почти непроходимыми даже для мелкосидящих пароходов. Нужно большое мастерство лоцмана и немалые усилия гребцов, чтобы пройти эти перекаты в малую воду. Наш карбас имел максимальную нагрузку. Он сидел глубоко и был отправлен как только наметилась прибыль воды. На каждом весле — четыре гребца. Одно весло оказалось «чисто студенческим». Работа сплавного рабочего на верхнем плесе не легка. Воду упускать нельзя. Прозеваешь, промедлишь — и прииски останутся без продовольствия и материалов. Поэтому жизнь на карбасе начинается рано — часа в два-три ночи, чуть забрезжит свет, и кончается в десять-одиннадцать вечера.
В нормальную воду карбас идет по течению. Изредка приходится «перегребаться», чтобы не попасть в рукава и слепые протоки. Не то в малую воду. Здесь уже некогда дремать: перекаты — на каждом шагу, то-и-дело нужно при помощи гребей лавировать между камнями, песчаными банками, прогонять карбас поперек течения, направлять его в узкую стремнину перекатов.
Нам не повезло. В первую же ночь вода упала. Вначале, пока воздух был прохладен и силы свежи, пока на руках еще не было кровавых мозолей; мы бодро вступали в бой с перекатами Но уже задолго до полудня нам стало казаться, что день бесконечен и сил нехватит
А команда лоцмана «Ходи правая!» подхлестывала, заставляла хвататься за руки и рвать удар за ударом. Временами казалось, что еще мгновение — и духа нехватит... Но с мостика
— Ходи веселей!. Навались!..
И руки движутся… Неужели осрамим Горную академию? Зато какой ангельской музыкой звучала команда:
— Правая, суши!..
Как хорошо, выдернув гребь, развалиться на брезенте поверх мешков муки и подставить солнцу ноющую спину и руки! Невольно вспоминаются средневековые галеры на старых гравюрах — такие же весла и четверо гребцов.
Карбас — наследие каторжного прошлого Лены. Ему на смену приходит теперь новая советская техника.
— Ходи обе, ходи враз! Нажми, паря! — кричит лоцман.
Вдруг мягкий толчок. Нос карбаса уперся в песок, и подхваченная боковым течением посудина моментально заворачивается кормой вперед и натыкается бортом на опечку[2].
Сначала многоэтажная ленская ругань и почесывание затылка. Затем команда:
— Заводи оплеуху!
Это значит: надо взять специально приготовленную широкую доску—«оплеуху», длиной в девять аршин и толщиной в два вершка, укрепить ее канатом за нос или угол кормы и, отпустив второй конец на канате так, чтобы доска образовала угол в тридцать пять — сорок градусов к борту карбаса, поставить ее на ребро. Тогда, преграждая быстрое течение, оплеуха поворачивает карбас в нужную сторону.
Иногда, чтоб сняться с мели, нужно заводить оплеуху несколько раз.
У нас был опытный лоцман — старик. Он всегда благополучно снимал карбас с мели. Но заводить оплеуху приходилось часто. Каждый раз, когда мы натыкались на мель, накипало в душе и на язык просилась брань — надо было лезть в ледяную воду.
Жаркие безоблачные дни. Холодные звездные ночи. Над рекой и з долине под утро туман. Рано утром — команда;
— С богом! Отдай чалку!
И снова многотрудный день, греби, оплеухи.
Вечером шестого дня нашего путешествия мы причалили к пристани «Тихий плес» в Жигалове, получили расчет и на другой день сели на пароход.
Теперь мы могли любоваться красотами Лены вдосталь. Все было ново для нас — и природа, и люди, и быт.
Как только покажется деревня, наперерез пароходу мчатся легкие лодочки, ловко управляемые женщинами На ходу начинается меновая торговля. С одной стороны — молоко, яйца, картофель, рыба, с другой — спички, мануфактура, сахар, сахарин.
В деревнях и селах одни женщины. На полях — женщины. На рыбной ловле — женщины. Мужское дело, по исстари установившейся традиции — сплав, охота, почтовая гоньба и неторопливый разговор за трубкой на берегу реки, на обрубке вековой лиственницы.
Истощенные, часто малорослые люди, жалкие деревни, покосившиеся избы, убогие поля, обязательные деревянные церкви и один-два пятистенных дома под железной крышей. Не верится, что это та самая богатая Сибирь, о которой мы так много слышали; что эти люди — те самые могучие сибиряки, о которых у нас ходили легенды. И так до самого Якутска. Какой контраст по сравнению с тоболяка-ми, томичами, енисейцами и уроженцами Забайкалья, составляющими основной контингент приисковых рабочих!
Где-то в Киренске или Олекме в недалеком прошлом сидел купчина Серкин. имевший в каждой деревне маленьких Серкиных. При помощи маленьких Серкиных большой Серкин держал в руках все прибрежное ленское население, давая снаряжение, товары, продовольствие под будущий улов, будущую охоту, будущий урожай и насчитывая на это сверхростовщический процент. Еще долго — и после революции— жива была на Лене поговорка: «Как Шеркин[3] скажет».
После пяти дней ожидания устраиваемся на пароход с отрядом красноармейцев, отправляющихся на ликвидацию проникших из Охотска в Якутию банд генерала Пепеляева.
Ночью промелькнуло ущелье «Пьяный бык». Мы долго не ложились спать, боясь пропустить красивейшее место на Лене. Уже за полночь, в лунном свете, возникли очертания известковых скал, отвесно спускающихся в воду. Ударяясь о правый берег, сверкая в свете луны, течение отскакивает и мчится к скалам противоположного берега. Горе неопытному лоцману, ведущему баркас в большую воду! Много лет назад, говорит предание, плыли вниз карбасы, груженные спиртом и монгольским скотом. Как щепку подхватила их река на стремнине и понесла на скалы левого берега. Оглушительный удар — и в водовороте скрылись и люди, и спирт, и быки. Отсюда и название: «Пьяный бык».
Позади остался местный административный центр — г. Киренск. Мы в селе Витиме. До Бодайбо вверх по р. Витиму — триста километров.
После летних сезонных работ прииски каждую осень выбрасывали сотни рабочих с хорошей «достачей» — золотом-сырцом. Первым этапом на их пути было село Витим, где много соблазнов для проработавшего год, а то и несколько лет на глухих приисках, под землей.
В каждом доме Витима рады горняку. Его приютят, накормят, напоят. Горняк — доходная статья. Разогревшись от водки, пойдет куралесить широкоплечий тоболяк или нижегородец в плисовых штанах с красным кушаком. Начнет гуляка швырять деньги, стелить себе под ноги вместо дорожки тонкое сукно или бархат, сорить золотом, поить всех, кто подвернется под руку. И глядишь — через неделю, изодранный и в синяках, с опустевшим карманом, он бредет на прииски начинать все сызнова. А иной, удалая головушка, и вовсе исчезнет с камнем в ногах в глубоких стремнинах Лены. И никто не узнает, не проведает о последнем пути какого-нибудь Кольки Чубатого...
Так жил, как паук, на перекрестке двух путей, Витим. Революция разорвала паутину. Начал хиреть пьяный разбойный Витим
Проторчали мы там четыре дня. Наконец к пристани подвалили «Диктатор» и «Коммунист». Устраиваемся на носу «Диктатора». Пароход тянет за собой две больших баржи с грузом и новыми рабочими.
Против течения пароход идет медленно. Редко — километров через двадцать пять — тридцать попадаются зимовья ямщиков, обслуживающих почтовую гоньбу. В довоенное время почтовая гоньба на этом участке сдавалась на откуп богатым купцам Витима, державшим на всех десяти станках до ста пятидесяти лошадей. Летом зимовья пусты.
Стайки уток то-и-дело взлетают впереди парохода. А солнце ласково печет и так хорошо лежать на носу парохода, наблюдать переливы воды, медленно уходящие назад берега и мечтать под торопливые и мягкие удары плиц...
Удар по плечу:
— Да проснись, чудак!.. Проснись, пароход навстречу...
На палубе суматоха. Встречный пароход разворачивает баржи и подходит для погрузки дров к берегу. Наш пристал бок о бок с ним.
Пароход ведет вниз набитые народом баржи.
Вертайся, товарищ, назад!
Сдохнете на приисках!
— Шамать нечего! Тухлое мясо и китайская вермишель! На баржах узнают старых приятелей, делятся впечатлениями того и другого мира — «жилухи» и «приисков».
Возвращающиеся с приисков проклинают недостаток продовольствия, жалуются, что «достача мала», что Чан-чик, где самые богатые шахты, еще не работает, что действуют всего только две шахты на Федосиевском. Ругают на чем свет стоит контролера по борьбе с хищением золота.
Внимательно вслушиваемся в разговоры, впитываем в себя новые впечатления, хотя совсем еще не представляем себе производства и непонятна нам приисковая терминология. Многие в унынии. Больше всего угнетают слухи о плохом питании.
Не спится. Как нас встретят новые места?
Глава вторая
В Бодайбо нас никто не встречает. Куда идти? Коренной бодайбинец Костя Котельников становится нашим проводником. Оставив одного с вещами, идем в управление железной дороги, к начальнику дороги инженеру Тауберу.
Перед нами маленький, издерганный, желчный человек.
Студенты?
Да, московской Горной академии.
Не видывали еще таких! Не видывали! Бузотеры? Неучи! Почему такие голодранцы? Наверно, голодны, как черти? Идите в посетительскую. Вот, напротив конторы. Скажите, чтоб дали комнату. И чтоб накормили! Вещи? Где? На пристани? Еще один? Куда столько! Сейчас скажу становому[4], чтобы привез. Завтра уедете с пассажирским.
Чудесное свежее утро. С реки тянет холодком. Горы и лес и лома кажутся только что умытыми. Пьем чай с сахарином из своих запасов и идем на станцию. Поезд уже подан, в кассе наши «требования» обмениваются на билеты — и мы в вагоне.
Третий звонок, гудок — совсем такой же могучий, как на паровозах сибирского экспресса, — и поезд с места берет полный ход. В вагоне приисковые рабочие и много женщин, приезжавших в Бодайбо за овощами. Завязывается разговор на тему, где и что «работается» т. е. где и какое золото разрабатывается, какие «идут» шахты, как кормежка и неизменно: «А как достача?»
Дорога зигзагами поднимается на гору. Вдоль берега видны причаленные плоты сплавленного для шахт с верховьев Лены леса, ползают на станции паровозы, дымится депо. Но жизни мало, почти не видно людей, нет оживления на пристани, на выгрузке леса...
... Ленский золотопромышленный район имеет большую историю. Он отстоит от железнодорожной магистрали более чем на две тысячи километров. Путь от Иркутска — по бурятской степи и водой — длится двадцать-двадцать пять дней. В распутицу связь поддерживается только по телеграфу. Продовольствие завозили из «жилухи» — со стороны Иркутска.
Летом на паузках — крытых карбасах — иркутские купцы ходили вниз по красавице Лене. На паузках — ружья, порох, сети, дробь и прочая охотничья и рыболовная снасть, чай, дешевые ситцы, обувь — все, что нужно на потребу приленскому крестьянину и тунгусу-охотнику, вплоть до спирта.
К паузкам тянулись с зимней охоты жители тайги. В обмен на товары несли белку, соболя, лисицу — всякую пушнину, которую за бесценок брали иркутские купцы. Однажды тунгусы принесли самородки золота. Приказчик купца Трапезникова, быстро смекнувший, чем дело пахнет, расспросил бесхитростных тунгусов, где они нашли блестящие безделушки. За стакан спирта он разузнал, что нужно. А зимой, наняв проводников из тех же тунгусов, в тайгу ушли первые партии золотоискателей купца Трапезникова и застолбили для хозяина долины рек Ныгри, Хомолхо и других.
Это было в 1852 году. За первыми партиями поползли в район хищники-золотничники. Потянулись золотопромышленники из Иркутска, Забайкалья, с Енисея и застолбили для себя все речки и ключи Витимо-Олекминской тайги. Возникли компании российских капиталистов — «К0 промышленности Сибиряковых и Базанова», «Полное Ленское товарищество Баскина», «Дело Базилевских»
Богатые россыпи залегали сравнительно неглубоко Первые эксплоататоры ленской тайги перенесли в новый золотоносный район примитивный опыт золотых приисков Енисея, Амура, Забайкалья. Работали только летом. К зиме вербованные на сезон рабочие увольнялись и возвращались домой или нередко пополняли собой ряды копачей-хищников. Они промышляли, добывая золото на чужих площадях и скрываясь от казаков горного исправника.
Шли годы. Россыпи начали истощаться и слава района меркнуть, как вдруг, при углубке разведочных шурфов по рекам Накатами и Ныгри, открыли глубокие, древние россыпи, более богатые и мощные, чем все открытые раньше. Ленские россыпи покрыты ледниковыми отложениями, толщина которых колеблется от двадцати пяти до шестидесяти, а в отдельных случаях достигает даже ста и ста пятидесяти метров. Столь глубоко залегающее золото можно взять только подземными работами. Прежде чем добраться до него, надо пройти прослойки жидких плывунов, бороться с большим и постоянным притоком воды. Иногда встречаются золотые россыпи, сверху донизу скованные вечной мерзлотой.
Ленское золото не взять без сложных механизмов и постоянных кадров рабочих, хорошо изучивших дело.
Специфический характер ленских россыпей исключал возможность эксплоатации их силами мелких промышленников. В 1896 году возникла довольно крупная компания «Ленское акционерное товарищество», привлекшее в 1907 году иностранный — английский — капитал. Ленские прииски сравнительно быстро превратились в промышленное предприятие. Это обстоятельство имело большое социальное и политическое значение. Лена стала в ряд с большими индустриальными предприятиями России, что особенно ярко проявилось в событиях 1912 года. Ленские горняки и в эпоху гражданской войны остались верны революционным традициям. Много горняков в годы колчаковщины сложили головы в партизанских отрядах, в борьбе с генералом Красильниковым. В центре города, в братской могиле, похоронены расстрелянные красильниковцами рабочие — организаторы советской власти. Обнесенный оградой скромный деревянный обелиск с мемориальной доской напоминает сейчас о днях отшумевшей борьбы и имена героев...
...Станция Надеждинская. Здесь — центр управления ленской золотой промышленностью. Выходим из вагона. Часы на каланче бьют двенадцать. Напротив станции — здание главного управления, большой деревянный дом.
Главноуправляющего промыслами нет. В конторе нам сообщают, что он давно уже назначил нас в единственное работающее предприятие — Артемовское приисковое управление. Вскоре нам подали лошадь и мы отправились к месту назначения.
Глава третья
Прииск Артемовский. По обоим берегам реки старые одноэтажные дома. Вот двухэтажное здание конторы приискового управления. Являемся к управляющему, инженеру М. А. Эйдлину. Крупный, представительный человек в пенсне. Медленные вопросы, обходительное обращение, ничего лишнего. Расспрашивает, кто какого факультета и курса, кто где и когда работал, какова цель практики. Узнав, что для меня это дипломная практика, обещает помочь материалами и советом. Нас тут же назначили десятниками в шахты. Эйдлин предложил, чтобы старшие из нас изучили весь цикл низовых работ в производстве и получили полное представление о деле.
Становой Цибульский — высокий, плотный человек со светлыми, дерзкими глазами — получил задание устроить нам жилье, дать спецодежду, познакомить с будущим начальством. Он повел нас в общежитие холостых служащих, напомнившее нам Москву... впрочем, только своим названием «Сокольники». Там жили смотрители проб, промывальных приборов, участковые десятники—всего человек десять. Они занимали каждый по комнатке. В середине дома — большая комната, служившая столовой красным уголком и местом общих бесед. Общежитие обслуживала жена рабочего, жившего здесь же. Она кипятила чай, стирала белье, топила печи, следила за чистотой помещения. По местной терминологии, ее звали «мамкой».
— Ну, пойдемте, ребята, спецодежду дам.
На складе выбираем брезентовые штаны, куртки, полуболотные огромные сапоги и бленды[5].
— Собачья должность — станового, — жалуется Цибульский. — За спецодежду ругают, за квартиры ругают, рабочие ругают, управляющий ругает...
Мы пошли знакомиться с заведующим шахтой № 9 Г. Ф. Рединым. Жил он с семьей на прииске Каменистом, в новом поселке служащих. Встретил нас саженного роста человек с огромными седыми усами, слегка пожелтевшими от никотина.
— А, суслики! — оглушил он нас могучим басом. —Проходите. Здравствуйте. Это моя жена, Прасковья Николаевна. Познакомьтесь. А это, Паша — молодые суслики, студенты... Наладь-ка нам, мать, чаю.
Из-за неплотно закрытой двери выглядывают молодые девичьи лица, смеющиеся глаза.
Как ваше имя, отчество, господа? — спрашивает нас Редин.
Гордей Федорович, мы уже отвыкли от господ.
В ожидании чая выходим в огород, разбитый перед домом. Любовно разделанные гряды — картофель, огурцы, помидоры, редиска, даже арбузы.
Разговор касается людей, с которыми придется работать. Суждения Редина крайне категоричны и резки. Он не признает промежуточных оттенков.
— Марк Абрамович Эйдлин — голова. Серьезный управляющий, деляга, а главное — не врет на ветер. Сказал — так и будет. Но исполнения требует жестко. Помню я его еще студентом-практикантом. Одет с иголочки, в белом кителе Варин, не то, что вы, — оглядывает он нас с головы до ног и весело улыбается. — Да и платили тогда практикантам за безделье хорошо — рублей сто. — Редин громко смеется своей шутке. — Практика на Лене была выгодным делом для студентов. Попасть сюда не всем удавалось.
Хозяйка зовет к столу. Чай, белый пышный хлеб из крупчатки, масло, закуска из овощей и сметаны. У Гордея Федоровича целое хозяйство — огород, корова, свиньи, куры.
Мы давно соскучились по хорошему и сытному столу, можно сказать, не видели его годами. В пути по Лене питались либо мукой, которую собирали у прорвавшихся мешков и приготовляли из нее размазню, либо кашей из собранной таким же образом пшеницы. Мы оказали честь всему, что было на столе гостеприимного Редина, включая и небольшой графинчик водки, без которой приисковый жителе считает позорным принимать гостей.
Ночью, слегка навеселе, возвращаемся домой, довольные, что сразу нашли друга, в котором уже видели будущего учителя горному делу.
Рано утром, в пять часов, нас разбудило хватающее за сердце завывание электрической сирены.
Первый гудок на работу!
Умываемся ледяной водой прямо из-под жолоба. Проглатываем по кружке чая с сахарином и куску ржаного хлеба Молодые желудки вместительны, но приходится. Ограничивать аппетит хлеба выдали полтора фунта на день — максимальный по тому голодному году рацион подземного рабочего.
До шахты с километр-полтора. Выходим гурьбой из «Сокольников»...
Через верхнее «раскомандировочное» помещение направляемся к спуску, закрываемому сверху тяжелой «западней>, чтобы в шахту не могли попасть посторонние люди.
Пахнуло специфическим шахтным ароматом — смесь запахов загнивающего сырого хвойного леса, подземелья, динамитных газов и машинного масла. После дневного света сначала ничего не видишь, несмотря на горящую в бленде свечу. Горнякам, уверенно шагающим в темноте, кажутся комическими наши двигающиеся ощупью фигуры.
Нас сопровождает случайно встреченный десятник — Сметанин. Мы внизу. У начального пункта канатной дорожки покуривают откатчики, в ожидании пуска каната Сметанин ведет нас из одной горизонтальной галлереи в другую, или, иначе говоря, из штрека в штрек, из просечки в просечку. Проходим поворот в рабочий участок шахты № 8. Двое из моих товарищей сворачивают направо. Мы же выходим на штрек шахты № 9. Сметанин неожиданно куда-то исчезает.
Раскомандировочная. Заведующий шахтой Редин дает уже назначение последним рабочим.
Ну, как дошли? — спрашивает он, отпустив последнего рабочего. — Не заблудились?
Благодарю, меня провожал Сметанин.
Ах, он паршивец! (Дальше брань.) Опять проспал! (Брань.) Ночь за девчатами бегает, а на работе спит. (Брань.) Опять на нижнем участке некому было рабочих с раскомандировки расставлять. (Брань.)
Я невольно подвел беднягу. А заведующий шахтой уже быстро шагает по штреку, сгибая в дугу свою саженную фигуру. Через несколько минут он возвращается и уже бранит плетущегося за ним красного, как пион, Сметанина:
— Смотри, Григорий. Хотел тебя выучить, но будешь
лениться — выгоню.
Редин, наконец, перестал пилить Сметанина
— Найди, — говорит он ему, — пальщика[6] Пономарева, Селиховкин будет с ним ходить десятником
Через пять минут В В. Пономарев, коренастый, смуглый, уже пожилой рабочий, стоял перед нами. Я должен был наблюдать за правильностью отладки с точки зрения безопасности и учитывать расход взрывчатых материалов
Пальщика звали из забоя в забой. Через полчаса все выработки были затянуты густым туманом динамитных газов. С непривычки начала болеть голова и поташнивало. Взрывы глухо отдавались в выработках. Дым, уносимый вентиляционной струей, начал постепенно рассасываться.
Пальщика зовут на переделку главного штрека. Нам надо проникнуть в уже отработанную часть шахты. Давлением пород кровли там разрушило крепление штрека. Грязная вода рекой течет по штреку, с шумом и плеском разбиваясь о деревянные ваймы[7], на которые брошено по узкой доске. Темно, хоть глаз выколи. Только наши бленды разрушают мрак. Осторожно ступая на мокрые дощечки, иду вслед за пальщиком. Надо низко нагибаться, так как над головой торчат концы сломанных и расщепленных огнив[8]. Иногда больно задеваешь лбом и выгнутым позвоночником за выступ сломанного бревна. От хождения в согнутом положении по скользким доскам становится жарко, пот струйками стекает на нос и отчаянно щекочет. Утереться нечем, одна рука занята блендой, другая поддерживает равновесие.
Уф! Кажется, дошли. Предвкушая удовольствие отдыха, разгибаю спину. Но я забылся, наступил на конец доски и, не успев сообразить в чем дело, лечу в воду.
Пальщик протягивает руку. Мокрый, а главное, сконфуженный, вылезаю из воды. Забойщики смеются, но не оскорбительно. Один предлагает с себя телогрейку, другой-ватные штаны. Из самолюбия отказываюсь, пытаясь отшутиться.
Дилемма: должен ли я запретить рвать шпуры[9], пока не будет приведен в порядок выход из забоя? Или такое положение нормально? А что если, запалив шпуры, пальщик или рабочий тоже поскользнется, как я, и не успеет выскочить? Это же верная смерть.
Товарищ Пономарев, я не могу разрешить здесь рвать.
Всегда, товарищ, рвали, — отвечает мне забойщик.
Мало ли что рвали... Надо сначала закрепить на ваймах доски, чтобы не было опасности для выхода.
— Это — дело, парень, — подумав, решает бригадир. Его поддерживает пальщик:
— Давай костыли, — говорит он откатчику. — Пойдем заколотим.
Через несколько минут доски прибиты, пальщик отпаливает. Уходим. Чувствуется, что больше нет натянутости, обычной между студентом и забойщиками, которые, по традиции, считали тогда студентов белоручками.
Однако купанье дает себя чувствовать. Температура в шахте круглый год один-два градуса тепла. Поэтому служащие и лица надзора, не работающие физически, ходят в шахте в ватных или суконных брюках, ватной телогрейке и поверх всего этого брезентовый костюм; на голове шапка с надетой поверх ее кожаной шляпой. В таком костюме только в меру тепло.
О моем купании узнал уже Редин. Он зовет меня к себе и предлагает отправиться домой. Не протестую, так как начинаю мерзнуть. Открываю западню и выхожу на свет.
Полдень. Страшно хочется есть. Нас прикрепили к рабочей столовой. Значит, надо идти в поселок, за речку Большой Догалдын или, как здесь говорят, в «Загалдын».
Ветер с Догалдына доносит запах падали. По мере приближения к столовой запах этот усиливался: пахло мясо, уже начавшее портиться в ледниках и подвалах. Трудно передать впечатление от обеда. Был подан суп из прозрачной китайской вермишели и недоброкачественного мяса. На второе — гречневая каша. Хлеба не давали — надо было его приносить с собой. Даже наши неизбалованные желудки, привыкшие к блюдам голодных лет Москвы и видавшие виды, на первый раз спасовали перед приисковым супом.
Народу в столовой мало. Большинство рабочих предпочитали питаться на дому, пользуясь услугами «мамок». У многих горняков обычно имелось золотишко, тайком намытое или взятое в забое. Время от времени такое золото сдавалось частным торговцам или в кооперацию, где и приобретались продукты питания.
Огорченные, уходим из столовой. Дома доотказа заполняем пустые желудки чаем с сахарином и остатками хлеба. А вечером с завистью смотрим на сожителей по общежитию, закусывающих жареной картошкой с хлебом, полученными за «единицы»[10], которых у нас, новичков, еще нет.
Глава четвертая
Скоро мне надоело ничего не дающее хождение с пальщиком. Сколько я ни просил у заведующего горными работами нового назначения — ничего не помогало. Выручил Редин. Он разрешил мне, числясь официально десятником при пальщике, заниматься всем, что может помочь сбору материалов для дипломной работы.
Иногда, с разрешения Редина, я становился в забой, чаще всего в первоклассной, известной на весь район артели забойщика Лютова — коренастого, с могучими плечами и железными мускулами, человека лет тридцати двух. Сначала я подолгу наблюдал, как четко и неторопливо ударяет Лютов кайлой по забою и с каждым ударом вниз сыплется груда земли. Никогда не ударит со звоном кайла в камень, разбрызгивая искры огня, — неизменно один и тот же тупой и ровный стук удара в породу. Ни один удар Лютова, ни одно его движение не пропадает даром: все рассчитано и методично, как у хорошей, разумной машины. Вот Лютов дает мне кайлу. Торопливые удары, кайловище вертится в руках, стальной конец кайлы то-и-дело со звоном ударяется в камень. Шутя, с прибаутками, Лютов поправляет, учит держать кайлу, показывает, куда ударять, как держать корпус.
С согласия Редина, Лютов показал нам, как моют золото «копачи» — хищники. В руках Лютова шестипудовая железная тачка с песками и водой с поразительной легкостью получила вращательное движение. Пески и порода вращались в тачке, как в тазу. Несколько минут — и тачка промыта. На скошенной стенке ее — крупинки золота, которые Редин тут же бросал обратно в породу.
В первые же дни работы в шахте мы стали быстро уставать. Организм требовал еды, а ее было мало. «Единиц» мы еще не заработали, а питание в столовой было весьма недостаточным. Через два-три часа пребывания в шахте становилось холодно, от слабости клонило ко сну. Все это прекрасно видел внимательный глаз Редина. Когда однажды, будучи не в силах бороться с усталостью, я и студент, практиковавший на соседней шахте № 8, залезли на штабель стоек в лесном складе и на минутку прилегли, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, появился Редин, извлек нас со склада и отправил домой. А на другой день, при очередном посещении шахты заведующим горными работами Буглевским, он представил ему ведомость на выдачу «единиц» мне и заодно студентам соседних шахт. Буглевский отказал, назвав нас бездельниками. Произошла сцена, свидетелем которой я стал случайно.
— Собственно, простите! — кричал Редин. — Почему
бездельники? Вы что же, собственно, хотите сказать, что
я помогаю бездельничать?
Обычно Редин и Буглевский были на «ты», но в минуту гнева переходили на зловещее «вы».
Н-н-н-не дам, — слегка заикаясь, отвечал Буглевский. — Л-л-л-лодыри! Ш-ш-шляются по-по-по чужим шахтам. По-по-по-меньше будут есть, м-ме-меньше будут бегать.
Что же, по-вашему, если ваш милый смотритель восьмой шахты ничем не хочет помочь, так они не имеют права обратиться ко мне по соседству? Значит они, собственно, должны ехать с практики ни с чем? Так-с?..
— Н-н-не д-дам! Л-л-л-лодыри... А ч-через год—два при-приедут начальством и бу-бу-будут тебе хвоста к-к-кру-ти-ить.
— Не надо мне, Михаил Леопольдович, ваших единиц. Подавитесь ими! Доложу Марку Абрамовичу.
Тут Буглевский смиряется и снова переходит на «ты».
— Ну-ну, ч-чего ты з-злишься? Давай сю-сю-да список...
В тот же день мы получили «единицы» и настойчивое приглашение Редина заходить к нему ужинать. Но мы особенно не злоупотребляли этим приглашением, так как отлично знали, что продовольственные ресурсы добряка Редина не особенно велики. А бывать у него всегда было интересно. Массу ценных практических сведений по шахтовым работам, большой материал для раздумья дал нам, студентам, и особенно мне, Гордей Федорович Редин — мой первый учитель по золоту. Прекрасный знаток Лены, он отлично знал дореволюционный быт рабочих и администрации. Особенно много он рассказывал о чудачествах, переходящих иногда в самодурство, двух старых работников ленской тайги — Сергея Петровича Черных и Валентина Дмитриевича Амосова, колоритных представителей людей Лены конца XIX и начала XX века.
В дни нашей практики С. П. Черных заведывал хозяйственной частью главного управления промыслами. Редин усиленно рекомендовал с ним познакомиться. Я это сделал. Черных — небольшой, пропорционально сложенный, уже лет за шестьдесят человек, всегда был безупречно выбрит и одет, носил белоснежные воротнички, манишку, манжеты. Черных сразу же пригласил нас к себе, и не раз засиживались мы у него до утра, слушая рассказы о прошлом. Как живые, проходили перед нами давно уже умершие люди, возникали огромные разрезы — открытые карьеры для добычи песков, тысячи людей и лошадей, по четырнадцать с половиной часов прикованных к труду на уступах.
В песках было золото, подъемное золото. Поэтому на пески стремились все, хотя и было там несравненно труднее. Иногда подъемного золота бывало так много, что, проработав только часть смены, артель заполняла самородками полную кружку. Тогда, чтобы уравнять заработок, ее заменяли другой артелью. В летнюю жару не поспевали таскать в разрез бочки холодного кваса. И на песковом уступе с высокой нормой нет-нет, да падал от перенапряжения рабочий. Кровь носом и горлом — и не стало человека. Но золото манит. На место упавшего в песковой уступ просились десятки охотников.
Окончив в свое время гимназию, Черных одолел много ступеней длинной служебной лестницы. Начал с десятника, был затем заведующим разрезом, первый предложил и сам организовал подземные работы в глубоких россыпях. Заведывал прииском, потом приисковым управлением и, наконец, стал начальником дистанции, объединявшей несколько приисковых управлений. На приисках Черных провел более пятидесяти лет крупный капитал разудалого сибирского купечества, труд каторжан, затем английский капитал — «Лензото»[1], перед которым сибирские мародеры казались милыми существами, расстрел 12-го года, революция, колчаковщина, советская власть... Но его мнения, его политических убеждений уловить нельзя. Он увиливал от прямого ответа:
— Мне уж помирать пора.
Его занимал вопрос, как могла победить голодная, раздетая Красная армия хорошо экипированные и вооруженные армии интервентов и белых, почему и как некоторые слои интеллигенции примкнули к пролетарской революции, почему, в частности, я, студент, сын учителя, интеллигент, пошел в Красную армию, стал коммунистом.
... Инженер Эйдлин интересовался нашей работой, добыл нам право пользоваться технической библиотекой треста, давал для анализа богатый статистический материал управления Затем он освободил нас от работы в шахтах и поручил съемку копров и технических сооружений, хронометражные работы и т. д. Это было мне на-руку, так как облегчало сбор материалов для дипломного проекта.
Незаметно наступила осень. Однажды в районе распространились слухи о близости белогвардейских банд генерала Пепеляева. Было введено осадное положение. Мобилизовали партийцев. Но Пепеляев сгинул, раздавленный красными войсками.
15 сентября. Пора возвращаться в Москву. Снова Бодайбо. Пароход. В Витиме пересадка. Усть-Кут... Дальше устраиваемся на шаланде и в первых числах октября маленький пароход «Товарищ» тянет ее вверх. Еще десять дней — и мы в Иркутске.
Осталось самое трудное — достать билеты на Москву. Полученные нами при расчете несколько миллиардов рублей тогдашней валюты потеряли за время дороги ценность и были истрачены. Как быть? Как добиться бесплатного проезда? Отдел народного образования—председатель губ-исполкома и губЧК—вот этапы трехдневного хождения. Ура! Получили литеры и броню на билеты. Снова экспресс. Скоро Москва, академия, друзья...
Глава пятая
Горная академия в составе трех факультетов — горного, геолого-разведочного и металлургического — была основана в начале 1919 года со специальной целью готовить инженеров для Подмосковного угольного бассейна и Урала.
Я попал в академию случайно. В середине 1920 года, согласно постановлению СТО меня демобилизовали из армии как бывшего студента горного института. Горный совет РСФСР, в распоряжение которого я попал, откомандировал меня по месту довоенной учебы — в Екатеринославский (ныне Днепропетровский) горный институт. Я оставил этот институт в 1915 году, когда со второго курса попал на германский фронт.
По дороге из армии заехал на родину — близ Орла, но семьи не нашел. Спасаясь от голода, похоронив отца и мать, жена выехала на Украину.
Поехал в Екатеринослав. Институтом руководила организация демобилизованных студентов — участников гражданской войны. В институте почти не нашел однокурсников— империалистическая война, революция, гражданская война разметали их всех.
Начал заниматься. Первые зачеты. Неожиданная партийная мобилизация в продотряд. Учеба прерывалась работой в деревнях, кишевших бандитами. Вскоре заболел тяжелой формой дизентерии. Почти одновременно в одном из сел бандиты вырезали чуть ли не весь наш отряд.
Врангелевское наступление. Больного, меня вместе со студентами старшего курса эвакуируют в Томск. Незадолго до этого я узнал адрес: жены, написал ей и в Екатеринославе мы встретились.
В Томск следуем кружным путем через Пятихатку—Кременчуг — Полтаву — Харьков — Москву. До Харькова —■ двенадцать долгих дней езды. Деньги, данные на дорогу, издержаны, а весь путь еще впереди. Идем в профобр, в Наркомфин, к Гринько. Он нас принимает в прокуренной комнате с зашарканным полом. Одет в ватную телогрейку, такие же штаны и ботинки с обмотками. Воспаленные от бессонных ночей глаза. Куда мы едем? Зачем? Кому пришла мысль эвакуировать нас? Ведь белые отступают! Но дело уже сделано. Гринько дает нам деньги.
15 декабря прибываем в Москву. Начались морозы. На мне солдатская шинель, французские яркосиние штаны, английские ботинки, папаха. Жена в летнем пальто и матерчатых туфлях. Вот и добирайся в таком виде до Томска, да еще в товарном нетопленом вагоне!
Главпрофобр меня оставляет в Москве и направляет в Горную академию. Поступаю на самый старший — второй курс геолого-разведочного факультета. Нас всего тринадцать человек.
Горная академия быстро обрастала кадрами первоклассных профессоров, обогащалась лабораториями, оборудованием, библиотекой. В 1921 году в составе профессуры академии уже блистали такие имена, как профессор Павлов, академик Лазарев, Губкин, Обручев, Терпигорев, Рязанов. Особенно богат был крупными силами геолого-разведочный факультет, избранный мною.
Отчетливо вспоминается аудитория академии зимы 20-го года. Вдоль кафедры ходит проф. Обручев в теплом пальто и шапке. В аудитории холодно, как и на улице. Лекция по теории рудных месторождений. На экране одна за другой сменяются картины, разрезы, графики, формулы, В аудитории напряженная тишина. Заледеневшие пальцы едва держат карандаш, но неустанно записывают. Тихо. Очень холодно. И голодно.
Страна еще в пожаре боев. Но правительство зовет — учиться, учиться, учиться.
Основной контингент студентов Горной академии 1920— 22 года составляли демобилизованные из Красной армии, бывшие студенты разных вузов. Участники гражданской войны, — это были более или менее идеологически однородные люди. Среди них было немало коммунистов. Другая группа — молодежь, недавно окончившая среднюю школу.
Студенты академии отнюдь не были однородной массой. Встречались среди них и кудлатые анархисты, были и меньшевики; пустые и никчемные крикуны, они без остатка тонули в могучей волне молодежи, со всей страстью отдавшейся борьбе за путь, по которому вела страну партия большевиков, вел Ленин. Можно по совести сказать, что студенчество Горной академии — втуза, созданного революцией — было в те годы политически самым радикальным из всех втузов и вузов.
Кадр профессоров составился как бы подстать молодежи. Профессоров заботливо подбирал ректор академик И. М. Губкин, беспредельно любимый студентами.
Вот проф. В. А. Обручев, теперь академик. Молодые, совсем юные и живые глаза как-то не гармонируют с седой головой. Какая тишина на лекциях, как внимательно схватывается каждое слово человека, отнявшего за свою долгую жизнь не одну ревниво скрываемую тайну у старушки-земли! Мне Владимир Афанасьевич Обручев особенно, дорог. Никто так много не дал для геологии золота, как он. В своей последующей практической работе я не раз прибегал к его трудам, не раз пользовался его советами. Весьма солидная часть из тех многих тысяч килограммов золота, которые добыты или найдены под моим руководством, может и должна быть отнесена за счет замечательного теоретического прогноза Владимира Афанасьевича.
Владимир Дмитриевич Рязанов. Навсегда запомнилась мне его огромная фигура, согнутая и как-то осевшая от болезни, которая в 1925 году свела его в могилу. Мягкий, поразительно деликатный, он неспособен был просить чего-либо для себя или для своей семьи.
Тяжело больной, он с трудом одолевал путь в академию, с Ордынки на Большую Калужскую. На это он тратил целые часы. И ни одной жалобы! Студенты скоро заметили это. Ни слова не сказав профессору, мы добились для него квартиры в нижнем этаже академии. Надо было видеть, как Владимир Дмитриевич был тронут этой небольшой заботой.
Старый профессор, бесконечно преданный науке, спешил отдать все, что знал, своим ученикам. Опыт у него был огромный, литературы же по золоту не было. Я был в то время единственным студентом, специализировавшимся по разведке и разработке россыпного золота.
С болью наблюдал я медленное умирание дорогого для нас человека, просиживал с ним ночи, работая над дипломным проектом.
— Мне недолго жить, Виктор Васильевич, — говорил он смущенно, — посидим, голубчик, попозже...
Нашему старому учителю стало трудно подниматься на третий этаж. Мы поставили ему кровать в кабинет, приносили туда обед... Помню, как, опершись руками о стол, тяжело дыша, он стоял над чертежной доской и конструировал по просьбе И. М. Губкина сложный прибор для определения элементов залегания магнитных руд бурением. Упала на чертеж от усталости голова студента, вычерчивавшего прибор по указанию учителя, давно слипаются глаза у меня. А профессор о чем-то говорит сам с собою, обмозговывая детали прибора. Какая это поразительно ясная была голова! Прибор изобретен и оказал огромную помощь при разведке Курской магнитной аномалии.
Когда представительство автономной области Коми обратилось к нему, как к человеку большого технического опыта, с предложением помочь созданию промышленности области и возглавить разведочную экспедицию, он, не колеблясь, согласился и лично руководил работой в поле и затем камеральной обработкой материала у себя в институте, выпустив технически полноценный материал. А вот Иван Михайлович Губкин, большевик, ректор, профессор — геолог нефти. Я не специализировался по нефти, но никогда не пропускал необязательных для меня лекций Губкина. Трудно себе представить что-либо более совершенное по красоте изложения, чем его лекции.
Губкин проделал огромную работу для создания первого советского втуза, очень быстро завоевавшего для своих питомцев самые отдаленные уголки Союза. Инженеры Горной академии — всюду желанные гости, желанные работники.
Прошло совсем немного лет, и бывшие питомцы академии, едва достигшие тридцатилетнего возраста, стали во главе крупных промышленных предприятий.
Жизнерадостный кипучий Б. П. Некрасов руководит всей добычей и обработкой редких металлов — вольфрама, молибдена, радия.
Валериан Языков руководит другой отраслью горной промышленности — Главникелем.
Не так давно награжденный орденом Ленина Ваня Тевосян, одно время секретарь ячейки академии, — теперь Начальник Спецстали, крупный и талантливый инженер.
Быстров — начальник Союзмышьяка.
Базжин — начальник геолого-разведочного треста золотой промышленности.
И так без конца.
Первый год учебы в академии был для нас с женой — тоже студенткой — очень тяжел. Сначала мы получили по ордеру маленькую комнатушку в Арсеньевском переулке.
Начались морозы. Я рубил на окраине города тополя или таскал бревна от котельной электростанции академии. Крошечная «буржуйка» дымит, не давая почти никакого тепла: дрова сырые! Шинель почти не согревает. Скудного хлебного пайка нехватает. Академические обеды из картофельной шелухи или мерзлой картошки мало питательны, а иногда просто несъедобны. Жена поступает работать в библиотеку на Таганке, я — преподавателем в фабрично-заводскую школу Голутвинской мануфактуры.
В те годы студенты питались преимущественно продуктами, привозимыми с практики. Нашим спасителем оказалось дружное товарищество студентов комнаты № 44. Население этой комнаты тогда только что вернулось из Грозного со студенческой практики с запасом разноцветных бобов. Мне казалось, что никогда я не ел ничего вкуснее. Много лет позднее, под впечатлением нахлынувших воспоминаний, я достал таких же бобов, сварил их, заправил по студенческому рецепту солью и... до чего же противным оказалось это блюдо!
Партийная работа в вузе в бурные 20-й и 21-й годы была довольно своеобразной. Республика была окружена врагами. Внутри страны тлели очаги контрреволюции разных направлений и оттенков. Передовое место бойца революции все еще было не на заводе у станка, а с винтовкой у границ. У оставшихся в тылу преобладали потребительские «зажигалочные» интересы; там, где подлинная пролетарская прослойка была особенно мала, свили себе гнездо меньшевики, эсеры, не покладая рук творившие злое дело контрреволюции.
На студентов Горной академии — партийцев — возлагалась иногда задача вести политическую работу среди рабочих, охранять завод или, наконец, нести ночную караульную службу на улицах и в партийно-советских учреждениях района.
Сладко заснешь, бывало, — вдруг тревога. И через несколько минут уже шагаешь с винтовкой по мало оживленным улицам Москвы в районный партийный комитет или парами и тройками рассыпаешься в цепь для патрульной службы.
Исключительно большое значение имела работа студентов на практике. Сразу по окончании академии они были почти законченными инженерами, не терявшимися на производстве. Теперь это ясно большинству, если не всем студентам и научным работникам. Но в те годы лишь немногие понимали, что полноценным инженером можно стать, лишь овладев производственными навыками.
Моя первая практика относится к 1921 году. Центропромразведка Горного совета направила тогда трех студентов академии в г. Омск.
Мы входили в состав северо-степной геолого-разведочной экспедиции, направлявшейся под руководством проф. Преоораженского в Казахстан на разведку вольфрамовых руд Пришлось проехать на лошадях около четырехсот километров по старой караванной дороге, почти по необитаемому району, усеянному солончаками и солеными озерами
С практики возвратились в сентябре. Живя в степи, мы ни разу не читали газеты. До нас доходили слухи о каких-то переменах в стране. В Омске впервые услышали слово «НЭП» — новая экономическая политика.
В академии среди партийной части студенчества дискуссия о нэпе. Затем дискуссия о профсоюзах. Мнения студентов раскалываются, большинство стоит на точке зрения Центрального Комитета.
После шестимесячного отрыва от общественной жизни неожиданный переход от принципов военного коммунизма к нэпу был тяжел. Жизнь не ждала, от членов партии требовалась работа по-новому Я не понимал нэпа, не осознал его необходимости. Я твердил сам себе, что буду плохим проводником линии партии, плохим исполнителем ее директив. И вот с болью я решился сознаться, что не могу быть хорошим членом партии, пока не исчезнут колебания и сомнения. Все это я изложил специальной комиссии, возглавляемой старым рабочим-большевиком.
— Эх, товарищ, ну и много же у тебяинтеллигентской мягкотелости! — сказал он мне. — Что ж, раз убеждения не действуют, погуляй беспартийным, одумайся и возвращайся.
Я был ему очень благодарен за это напутствие. Я не понимал тогда, что стал пленником настроений и влияний мелкобуржуазной стихии и, по существу, в грозовое время оставил товарищей, бросил винтовку во время атаки.
Став беспартийным, я не порвал идейной и фактической связи с организацией, а продолжал, как мне тогда казалось, оставаться коммунистом без партийного билета.
Время шло, приближалась новая поездка на практику. Работа с проф. Преображенским, его красочные рассказы о Лене, о благодарной роли разведчика и эксплуатационника золота, несущего культуру в новые, неисследованные районы, наконец, хозяйственное строительство республики и роль в нем золота — определили мой выбор. Отсюда — описанная выше поездка на Лену в 1922 году.
Защита дипломного проекта была назначена на 7 июня 1923 года Меня торопят. Правительство требует, чтобы академии наконец начала выпускать инженеров Я очень волновался, потому что этот день был экзаменом не только для меня, но и для всего факультета. Во мне заключался весь первый выпуск Горной академии. Я ее первый инженер, и в качестве моей дипломной работы кровно заинтересован весь коллектив студенчества и преподавателей. Но больше всех волновался наш дорогой Владимир Дмитриевич Рязанов, надевший ради столь торжественного случая парадный сюртук и тугие воротнички и вероятно очень в них страдавший.
Защита происходила в самой большой аудитории академии, доотказа набитой студентами и преподавателями. В первых рядах сидели профессора и мои лучшие друзья - студенты. Декан факультета объявляет:
— Публичное заседание академической комиссии по приему дипломного проекта студента Селиховкина считаю открытым.
Я начал излагать тему. Сначала страшно волновался, не находил слов, чуть-чуть запинался, голос срывался. Но скоро овладел собой, доклад повел уверенно, отчетливо представляя себе каждую деталь вопроса.
Кончил. Начались вопросы профессоров. Особенно досталось мне от любимого, но страшного своей эрудицией и требовательностью В. А. Обручева. Мне даже жарко стало. В аудитории стояла, как сейчас помню, напряженная тишина. Наконец вопросы окончены. Слово для заключения берет проф. Розанов, руководивший проектированием. Декан просит меня оставить аудиторию:
— Студент Селиховкин, прошу вас оставить зал заседаний.
Не зная, куда девать руки, я топчусь по колонному залу пять или десять томительно длинных минут, показавшихся мне очень долгими
Снова открывается дверь. Я слышу торжественный голос декана:
— Горный инженер Виктор Васильевич Селиховкин, прошу вас в зал заседаний совета факультета.
Вхожу. Все, как в тумане. Лица улыбаются и кажутся страшно широкими. Декан читает постановление совета признающее защиту отличной, а меня удостоенным на основании таких-то и таких-то статей закона звания горного инженера.
Зал кричит и аплодирует. Все вскакивают с мест. Меня поздравляет и обнимает декан, за ним проф. Губкин, Обручев, Рязанов, друзья.
Стремительная волна человеческих рук подхватила меня и я лечу к потолку и обратно под гул и рев разошедшихся товарищей.
На трибуне секретарь ячейки. Он приветствует первого птенца, вылетевшего из стен академии, и берет с меня слово быть верным революционным традициям академии, верным и честным бойцом социализма. Затем говорит ректор академии Губкин. Я беру ответное слово. Обещаю высоко держать знамя Горной академии и оправдать надежды своих учителей, своей власти и партии, меня воспитавших.
Сдержал ли я это слово? Без ложной скромности думаю, что честно сдержал...
Глава шестая
С дипломом в кармане иду в отдел кадров ВСНХ СССР, стипендиатом которого я был последний год. По положению о хозяйственных стипендиях, окончив учебное заведение, я должен работать в том предприятии, куда меня направит учреждение, выдававшее стипендию. Но в ВСНХ меня встречают с удивлением. Я причиняю всем беспокойство. Начальник не то отдела, не то подотдела, в который меня направили, седой, как лунь, профессор очень растерян: — Право, товарищ, не знаю, что с вами делать. Понимаете, это так неожиданно... так неожиданно...
Но, простите, — отвечаю. — я ведь стипендиат ВСНХ и обязан работать по вашему назначению.
Это очень хорошо... очень хорошо... Но, понимаете, сейчас нет требований. Прямо не знаю, куда вас направить. Выть может, вы сами походите по главкам, поищете?
— Мне искать не нужно, — успокаиваю я старика. — Мне давно предлагают работу в тресте Лензолото. Я был там на практике. Но вот не имеет ли ВСНХ на меня видов?
Лицо старика принимает счастливое выражение.
— Что вы, что вы! — восклицает он. — Мы очень рады, что вы идете на работу по склонности и призванию. Пожалуйста, поезжайте. Желаю вам полного успеха!
Собираться особенно долго не приходилось. Вещей у меня не было, обзаводиться ими пока не на что было.
Перед отъездом прощальный визит учителю — проф. Рязанову. Уютная комнатка. На столе крошечный самовар. Разговор вертится, конечно, вокруг трудностей пути, будущей работы, недавней учебы.
Учитель напоминает:
— Не забывайте, Виктор Васильевич, как вам трудно было из-за отсутствия литературы по россыпному золоту. Копите опыт. Вы любите это дело и, если захотите, сумеете дать нужную книгу по разработке россыпей.
Теплое прощание. Стало жалко прошедшего, жалко этого милого, дорогого человека, с которым, чувствовал, больше не увижусь. Конфузясь, он вдруг откуда-то неловко вытаскивает коробку конфект и дарит ее моей жене.
Через четыре дня после защиты дипломного проекта, 11 июня 1923 года, я выехал с женою на Лену. Вскоре у нас должен был родиться ребенок, и мы решили по пути нигде не задерживаться. Снова, как в калейдоскопе, промелькнули и остались позади города и реки, нанизанные на Великий сибирский путь.
На этот раз путь от Иркутска до Качуга совершаем в пассажирском автобусе. Тратим на это только тридцать часов.
В конторе пароходства, как всегда, никто ничего о пароходах не знает. Ехать в карбасе мучительно и долго. Что делать? Помимо нас, на Лену ехало еще несколько новых работников. Посоветовались и решили купить лодку, чтобы добраться в ней до Жигалова. Считая себя «старым лоцманом», я вызвался командовать рейсом.
Собралась компания в шесть человек, в том числе толстый спекулянт, везший медикаменты в Вилюйск. За два миллиарда рублей купили небольшую лодку, погрузили ее и — прощай земля! — оттолкнулись от берега.
Сразу же стало ясно, что лодка мала. Вода доходила почти до крайней, неконопаченной доски бортовины и при малейшем крене проникала в лодку через стык между этой бортовиной и корпусом лодки.
На берегу толпа любопытных. Подхваченная течением, лодка идет кормою вперед. Под десятками критических взоров, мы с непривычки неловко разворачиваемся и черпаем боргом воду. На лодке вскрикивает женщина, на берегу раздается хохот, напутственные шутки и пожелания встретить на том свете покойную бабушку.
Плывем в большую воду, значительно большую, чем в прошлом году, когда я в этих местах плыл гребцом На месте прошлогодних небольших островов, река катила сейчас мутные воды.
Первые тринадцать километров прошли быстро. Из-за излучины, сжатой с одного берега скалами красного песчаника разных оттенков, показывается широкий плес, а за ним — село. Это Макарове Вспоминаю, что против села должен быть небольшой остров, около которого в прошлом году был у нас первый аврал Всматриваюсь и ничего, кроме покрытой воронками водоворотов поверхности, не вижу.
Держу прямо по середине реки, имеющей здесь ширину триста—четыреста метров. Вдруг сидящий на носу товарищ с шестом кричит:
— Мель!
Даю резко влево, но — поздно: лодку боком натащило на банку[1], и она черпнула воды. Женщины испугались. Спрыгнув в воду, с большим трудом выводим лодку на струю, отталкиваемся и начинаем быстро грести к левому берегу. Но лодка, зачерпнув воды, осела глубже. При каждом взмахе весел вода понемногу попадает через зазор бортовины. Женщины отчерпывают воду фуражками. У нашего буржуя, человека весом пудов на восемь, не выдержали нервы. Он закричал, дернулся, и лодка сразу зачерпнула добрую порцию воды. Еще такой толчок — и мы на самой стремнине реки пойдем ко дну. Оторвав от воды весло, я в бешестве размахнулся и пообещал размозжить голову всякому, кто поднимет панику, и прежде всего толстяку.
До берега тридцать... двадцать... десять метров. Женщины отчерпывают воду, которая прибывает быстрей и быстрей. Вода уже во-всю льется в щель бортовины. Лодка медленно погружается в воду.
До берега пять, наконец, три, два метра. Берег — обрывистый уступ луговины, высотой метра в полтора. Подмываемые снизу, глыбы мягкой земли непрерывно падают, вернее, сползают в воду.
Тонем...
Товарищ с носа и я с кормы прыгаем в воду, стремясь прижать тонущую лодку к берегу. Вода доходит мне по горло, товарищу — по пояс. Несколько секунд нечеловеческого напряжения — и лодка садится почти у самого берега на мягкое илистое дно, в которое мы увязаем выше, чем по колено. Вылезаем на берег, выносим женщин, вытаскиваем промокшие насквозь чемоданы и узлы. Спекулянт бросается к своим медикаментам. Большая часть их безвозвратно погибла.
На противоположном берегу толпятся крестьяне, очевидно наблюдавшие за нашим приключением. Вот они спускают с крутого берега на воду легкие лодочки. С двумя гребцами каждая, лодочки поднимаются вдоль берега вверх по реке, уходят значительно выше нас и затем уже пускаются наперерез течению.
Счастье, что зажигалки не промокают. В ожидании помощи разводим костер.
Крестьяне причалили к берегу. Со своеобразным ленским выговором — вместо «с» — «ш» — они с удивлением расспрашивают, как это мы рискнули плыть в половодье на такой «пошуде». Даже они, прирожденные ленцы, не решились бы этого сделать. Вот такие безрассудные люди, как мы, каждый год гибнут здесь, на самом каверзном и гиблом месте всего плеса до Жигалова.
С неменьшими трудностями и приключениями доехали мы почти до Жигалова. От пристани «Тихий плес» нам удалось попасть на пароход.
За год, прошедший между двумя моими путешествиями на Лену, жизнь в прибрежных селах и пристанях заметно оживилась. Чаще, чем раньше, нас обгоняли карбасы и пароходы с грузом и баржами, больше виднелось народу. В праздники на берегах у деревень можно было видеть веселые табунки молодежи. Уже не было такого азартного, как в прошлом году, товарообмена. Никто не нуждался в популярном еще так недавно сахарине.
Партия и советская власть начали собирать и восстанавливать разрушенное войной хозяйство. И впервые я понял, какую ошибку я совершил своим «непризнанием» нэпа и выходом из партии...
Бодайбо. На пристани лихорадочно выгружают баржи. Лесотаски непрерывно подают из плотов мокрые бревна. «Кукушки» или, как их здесь называют, «мараказы», смешно свистя, бегают взад и вперед по пристанским путям. Между мараказами, как взрослый среди ребятишек, солидный басовитый паровоз толкает большие составы…
Открылись магазины. Помимо государственных — лен-золотовских и кооперативных, появились и частные лавки, фотографии, парикмахерские, даже рестораны. На улицах встречаются подвыпившие горняки в широкополых шляпах,- широких плисовых шароварах, сапогах со сборами и рубашках с красным кушаком.
Утром с пассажирским поездом едем на Надеждинский, в главное управление. В конторе железной дороги встречаю старого знакомого инженера Таубера. Он все такой же желчный, сердитый, но прямолинейный человек. У него узнал, что представители правления Лензолота, в том числе инженер правления, преподаватель нашей академии Евгений Петрович Прокопьев, уже на Надеждинском.
Мелькают знакомые станции и безлюдные поселки. Тау-бер по телефону предупредил о моем приезде и к поезду подают лошадь, чтобы перевезти веши в посетительскую.
Крошечная комнатка: небольшая кровать, вместо столика — тумбочка у окна. Стоит безумная жара. Сотни мух отравляют существование. Беременная жена чувствует себя мученицей.
На другой день утром представляюсь главноуправляющему инженеру Савельеву, человеку лет под сорок, с бородкой клинышком, живыми веселыми глазами и чертами лица мягкого, слабохарактерного человека, но с хитрецой. С его заместителем инженером Эйдлиным я уже знаком по работе на практике.
Одет я был в ту пору плохо и очень стеснялся этого. Сапоги с заправленными в них брюками типа галифе; сшитая женой сатиновая синяя в белый горошек рубашка, имевшая швы на внешней стороне рукавов. Все это дополняли грубый армейский пояс и форменная студенческая фуражка с молоточками Верхнее платье — солдатская шинель или новое пальто реглан, на два номера больше моего размера, сидевшее на мне, как на куцой вешалке.
Меня назначают в Артемовское управление помощником заведующего горными работами. На такую должность и туда же назначен прибывший за несколько дней до меня горный инженер А. С. Цыханский, томич, тоже недавно окончивший институт. Горными работами заведует старый знакомый Буглевский. Тепло встречаюсь с моим первым приисковым учителем Рединым и бывшими сожителями по «Сокольникам». Чувствую иное, несколько «уважительное» отношение стариков — «чорт его знает, может быть начальником будет От поклона шея не отвалится».
Вот вы, собственно, и начальством приехали, — говорит Редин, подмигивая в сторону Буглевского. — Покрутите, покрутите хвосты нам, старикам.
Что вы, Гордей Федорович! — отвечаю я. — Думаю еще у вас с .товарищем Буглевским поучиться. Ведь не откажете?
Вскоре мы с женой переехали на постоянную квартиру из двух комнат с кухней, в том же поселке, где жил и Редин Обстановки никакой, если не считать деревянной кровати, двух ведер, жестяного чайника. Первый день обедали на чемодане, служившем нам столом, сидели на полу, наподобие горцев
Становой разводит руками — ничего, мол, нет. Что было в квартире, «растащили соседи, и концов не найти» Казенную мебель из квартиры действительно растащили, но, впрочем, с согласия станового, в надежде на то, что новому инженеру дадут мебель из запасов главного управления. Начинать свою работу с жалобы управляющему не хотелось. Решил обратиться к заведующему хозяйственным отделом главного управления С. П. Черных.
Захожу в его комнату. У стола сидит жена недавно прибывшего на прииск механика.
— Да-да, — говорит Черных посетительнице, — для вашей квартиры действительно нужна мебель. Что же вам нужно? — Итут же сам отвечает за нее:—Вам нужны кровати. Сколько? Две? Ага! С сетками? И две детских? Ага! Иннокентий Иванович, — диктует Черных делопроизводителю, — пишите: две варшавских кровати с сетками, две детских... Написали? Очень хорошо. — Черных поворачивает голову в сторону женшины. —Вам еще столы, стулья? Да? Ага! Иннокентий Иванович, пишите: стол обеденный, большой, стол ломберный, два стола простеньких, стол кухонный, стульев венских дюжина. Написали? Ага! Очень хорошо. Еще пишите: два зеркала, самовар, стол письменный, кресло. Ну вот, теперь, кажись, все. Ну-ка, Иннокентий Иванович, еще раз...
Делопроизводитель оглашает длинный список. Ничего не забыто, даже самовар, занавески, утюги.
Взволнованная такой любезностью и отзывчивостью, посетительница не знает, как благодарить.
Вы удовлетворены, сударыня? — подчеркнуто вежливо спрашивает Черных.
Вполне! — горячо восклицает женщина. — Это больше, чем нужно, чем мы ожидали.
Ага! Очень рад. Очень хорошо! Но должен вам сказать, к сожалению, что ничего этого у нас нет. Рад бы, понимаете, всей душой, но, знаете, как есть ничего нет. Все растащили, разбазарили, разбили, сукины дети, — и Черных разводит руками.
На глазах женщины слезы. За что такое издевательство?
Черных, возможно, даже не сознавал того, что он делал. Таковы были нравы Склонность к двуличию, жестокости, своеобразному лицемерию я наблюдал у многих работников, прошедших школу старых хозяев Лены, вышибленных с приисков Великой нашей революцией.
Постепенно, в течение недели, я кое-как обставил свои две комнатки. На складе нашлось даже старое трюмо. Жизнь пошла помаленьку. Должность помощника заведующего горными работами не имела четких функций и не налагала никакой ответственности. Собственно, существовала она в те времена только для того, чтобы занять чем-либо молодых инженеров. Когда открывалась где-либо «вакансия» — скажем, должность управляющего или, в худшем случае, заведующего горными работами, — тогда молодой инженер «пускался в дело». Считалось, что должности заведующего шахтой или заведующего горными работами управления — неподходящие для инженера. Таким черным делом должны-де заниматься практики. Назначение инженера — управлять, решать большие проблемы, редко — заниматься расчетами. Впрочем, рассчитывать почти не приходилось, так как обычно все строилось и велось, как было заведено десятилетиями и как укладывалось в памяти практиков. Судьбы производства вершили технически малограмотные практики, тогда как из инженеров сплошь и рядом воспитывали белоручек или использовали их в библиотеках, школах.
Я близко сошелся с Цыханским, коренным сибиряком, деликатным человеком, с тонкими и нежными чертами лица. Цыханский недавно еще был красным командиром, и у нас нашлось много общих тем для разговоров. Особенно нравились мне в нем широкое развитие и чистая натура, чуждая в то же время мягкотелости. В обществе обо мне и Цыханском начались разговоры, как о невоспитанных молодых людях не знающих элементарных правил вежливости, потому что мы никому не делали визитов. Наконец инженер правления Прокопьев нам прямо сказал, что визиты делать необходимо, что портить отношения с товарищами по работе не следует.
В одно из воскресений мы решили сделать визиты, начав с главноуправляющего. Надели на себя лучшее платье и отправились часов в пять вечера на Надеждинский. Не доходя до квартиры главноуправляющего, мы почувствовали себя неловко, громко рассмеялись и свернули в дом правления к Прокопьеву. Просидели у него долго, попили с ним чаю. Неожиданно он обратил внимание на наше торжественное облачение. Сообразив, в чем дело, он вытолкал нас из дома, проводил до квартиры главноуправляющего, позвонил, а сам ушел. Было около десяти часов вечера, время для визитов поздноватое, тем более, что главноуправляющий, как и все инженеры, вставал часов в шесть утра.
Дверь открыла горничная. Она замялась и нерешительно обещала доложить. В доме тишина. За дверью слышится шопот, снова появляется горничная, просит в гостиную и сообщает, что хозяин сейчас выйдет. Догадываемся, что хозяева уже легли спать. Положение нелепое, но делать нечего. Через полчаса выходит хозяин, затем хозяйка. Бормочем несвязные извинения. Богато сервированный стол уставлен разнообразными закусками и неизменной водкой в графине с петушком внутри. Для начала знакомства выпиваем одну, потом другую... Петушок в графине обсох, снова был утоплен и снова обсох. Цыханский пасует.
— Вот это будет горняк! — восклицает хозяин, хлопая меня по плечу. — А вы, батюшка, смотрите, — говорит он Цыханскому, — плохая для горняка примета не пить.
Я всегда отличался завидным здоровьем и трудно поддавался опьянению. Перепить меня было не так легко, хотя к спиртному. меня вообще не тянуло. Уже прогудел гудок на работу, уже взошло солнце, когда мы покинули гостеприимный дом и отправились во-свояси, держась друг за дружку и с трудом удерживаясь в пределах железнодорожной колеи.
Облившись холодной водой, я, как ни в чем не бывало, облачился в рабочий костюм и пошел на работу. Традиция ленского горняка требовала: являться на работу вовремя и со свежей головой, сколько бы ни было выпито вина. Это считалось в свое время особым шиком и проверялось начальством.
Помощником заведующего горными работами пришлось пробыть недолго. В августе 1923 года меня вызвали в главное управление и предложили перейти на Ленинские прииски помощником управляющего по технической части или, как теперь принято называть, главным инженером управления.
С 1919 года прииски Ленинского управления находились на консервации, хотя некоторые шахты отличались исключительным богатством. При тогдашней схеме, во главе приискового управления обычно стоял управляющий — инженер по образованию, совмещавший в своем лице и обязанности главного инженера. Непосредственно ему подчинялись заведующий горными работами, заведующий хозяйством (становой), районный механик, заведующий гидротехническими сооружениями. В Ленинском управлении вводилась иная схема. Управляющим назначили старого практика, известного на весь район богатым производственным опытом, чудачествами и легендарным прошлым, Амосова, а меня главным инженером при нем. Я долго колебался, боясь не справиться с восстановлением заброшенных приисков. Но оставаться на неинтересной работе мне не хотелось, и я согласился.
На Чанчик, где шахты должны были быть восстановлены в первую очередь, прибыл заведующий горными работами, опытный практик Сорокин, плотничный мастер Евдокимов и механик Щербаков. Начали ремонт домов. Рабочих еще не было. 18 августа 1923 года, отвезя жену в больницу, перебрался на Чанчик и я. Ждать исхода родов я не мог: до прибытия рабочих надо было облазить все шахты, наметить с чего начать, какое оборудование проектировать и ставить, какие подготовительные работы вести. Здесь-то и оказался незаменимым Сорокин. Совместная работа с этим крупным практиком явилась для меня школой технической зрелости.
Прибыл из Дальней Тайги и управляющий Амосов. Он оказался пожилым человеком среднего роста, лет около пятидесяти пяти, с широченными плечами, окладистой, уже седеющей бородой. Одетый небрежно — в просторные брезентовые штаны, заправленные в сапоги, серую суконную рубаху и кожаный шахтовый пиджак летом и полушубок зимой, он по внешности напоминал типичного смотрителя или забойщика XIX века. За глаза рабочие и служащие называли Амосова фамильярно «Валентюша».
В. Д. Амосов прошел большую школу открытых и подземных работ на Енисее и Лене. Начал он свою карьеру с забоя и был воспитан на методах хозяйствования старого «Лензото». Я и до своего назначения в Ленинское управление слышал об Амосове много рассказов и анекдотов. Меня предупредили, что инженеров он считает белоручками, не ценит и не уважает их: они, по его мнению, выезжают на горбу таких «мужиков», как он. Вставал Амосов в четыре утра и минут за пятнадцать до начала раскомандировки уже сидел один в нарядной, ждал народ, наблюдая, кто, когда и в каком виде приходит на работу. Позже я убедился, что Амосов не только знал в лицо почти каждого из двух тысяч рабочих и служащих управления, но и помнил их рабочие номера, знал их имя и отчество, знал, как и где живет каждый, каковы его слабости.
В. первый же день моей работы, придя в раскомандировочную, Амосов застал меня там и был очень удивлен. Назавтра Амосов пришел в раскомандировочную в пять часов утра и снова застал меня там. На следующий день он пришел еще на полчаса раньше — я был уже на месте.
— Ну, зачем вы изнуряете себя? — говорил он мне. — Ваше дело—шахты и механизмы, а здесь уж я и один справлюсь. Вы на утреннюю верховую раскомандировку не ходите, а располагайте своим временем, как хотите. Только прошу вас, проверяйте этих сукиных сынов, смотрителей, а то любят поспать...
Так был установлен дружеский союз, который не дал бы трещины до конца совместной работы, если бы не новая обстановка, возникшая с передачей ленских приисков в концессию. Для меня, начинающего инженера, Амосов оказался настоящим кладом. Он мне нравился, несмотря на чудачества и внешнюю грубость. Вернее, я немного жалел его. Он был типичным представителем умирающего поколения работников золотой промышленности, которому трудно уже примениться к новой жизни, новой технике. Всеми средствами я оберегал Амосова от столкновения с непонятными для него новыми тенденциями, чтобы он без помех отдавал делу свои большие практические знания и опыт. Очевидно, и он чувствовал ко мне симпатию. Часто по вечерам, когда мы оставались одни, он, незаметно воодушевляясь, рассказывал мне о прошлом, извлекая из своей поразительной памяти имена людей, примеры, цифры, нормы, описывая методы и приемы работы.
Амосов поселился в квартире из трех комнат. Одна из них служила гостиной и местом собраний руководителей цехов, в другой—без окон — жил, вернее, спал, он сам, в третьей — домашняя работница старушка, фамилию которой никто не знал; ее называли «Амосова». Комната самого Амосова убиралась раз в году, обычно летом. Для этого выбирался дождливый день. Кровать, ящики, стулья и пр. Выносили на улицу. Десятки кур немедленно сбегались на поживу. В амосовских вещах размножались мириады клопов, которых он в остальное время года не разрешал убивать.
Однажды я с удивлением обнаружил, что этот на вид ничем, кроме приисков, не интересующийся человек, обладает довольно глубокими познаниями вминералогии, хорошо знаком с технической литературой. У него под кроватью в ящиках оказалась прекрасная коллекция образцов минералов и пород, собранная им при поездке во главе разведочной комиссии на реку Чару.
— Посмотрите-ка на это, — сказал он мне, вынося из спальни великолепный образец ноздреватого, как губка, вулканического туфа.
Яс жадностью завзятого геолога хватаю образец и тут же роняю его на пол: в порах туфа ютилась уйма клопов, неожиданная тревога заставила их выползти на свет.
— А, клопы, — невозмутимо промолвил хозяин и отнес камень на крыльцо курам...
На приисках сначала все не ладилось. После долгой консервации машина, фигурально выражаясь, шла в ход туго и скрипя.
Отношения с рабочими и служащими у меня сложились Хорошие. Получилось это, быть может, потому, что в обращения я был прост и доступен, а это на Лене тогда еще было ново. В случае необходимости ко мне на дом шли за сонетом и помощью. На вопросы и требования каждый немедленно получал ясный и категорический ответ, от которого я не имел привычки отказываться. Я и сам не стеснялся в производственных делах советоваться с рабочими и служащими, хотя и не ставил никогда свое решение в зависимость от чужих мнений.
В Ленинском управлении в то время были два добычных участка по Чанчику: нижний с центральной шахтой № 6 — участок в общем небогатый, но удобный для добычи, и участок с центральной шахтой № 3, очень богатый, но сложный по характеру россыпи, условиям ее залегания, вечной мерзлоте. Нижний участок простирался на полтора километра, верхний — почти на три с половиной. Надо было спроектировать и построить механические подземные устройства для откатки, устроить вентиляцию, обеспечить подачу воды на промывные приборы, механизировать их и т. д. Довольно большое и серьезное дело для начинающего инженера. Вдвоем с Сорокиным мы с этим справились недурно.
Много хлопот доставила нам организация промывки на шлюзе № 3. Зимой на приборе стал заметно уменьшаться приток воды. Дошло до того, что поступление воды на шлюз совсем прекратилось. Зато увеличился приток ее в подземных выработках. Очевидно, вода из закрытой питательной канавы уходила в полотно. Как быть? Стояли большие морозы. Вскрыть канаву — значит заморозить ее.
Поздно ночью бродили мы с Сорокиным вдоль канавы. Мне пришла мысль: пользуясь своей гибкостью, попробовать проползти по сплоткам и канаве от шлюза до того места, где теряется вода, и установить, в чем же там дело.
Ползти было трудно. Несмотря на то, что наверху стоял тридцатипятиградусный мороз, мне было жарко. Наконец я добрался до прорыва. Вода провертела воронку на стыке между земляным полотном и концом одной из деревянных сплоток и уходила в почву. Я полез назад. На месте прорыва вскрыли канаву, забутили ее навозом с прослойкой мха и камнем и пустили воду. Промывка песков возобновилась.
22 января 1924 года мы получили известие о смерти Владимира Ильича Ленина. Прииски оделись в траур.
В эти дни стояли жестокие морозы — сорок — сорок пять градусов по Цельсию.
27 января, когда далеко, в Москве, хоронили великого вождя и учителя, у нас, в Сибири, на Лене, в непроглядном морозном тумане стояли, построившись в ряды, рабочие... Мертвая тишина. Тревожно-печально загудели гудки станций паровой оттайки, электрические сирены шахт и электростанций. На бегу остановился и протяжно загудел паровоз. Глухо прозвучали в тумане залпы винтовок милиции. Люди обнажили головы. Многие плакали, и слезы сосульками намерзали на усах. Надо сказать какие-то слова, но чувствую, что сейчас расплачусь, машу рукой и ничего не говорю...
Глава седьмая
1923 год... 1924... 1925...
Прииски стали быстро оживать. Появилось много новых людей.
Новые рабочие в большинстве случаев легко усваивали черту иных стариков-ленцев, отличавшую их от пролетариев подлинных индустриальных предприятий—стремление к наживе путем кражи золота. Красть золото не считалось предосудительным. Если, рабочий имеет возможность украсть в забое — «пошуровать» или «похищничать» — и не сделает этого, его засмеют копачи.
Существовал штат специальных контролеров, обычно партийцев, которые ходили по шахтам, выявляли и ловили «шуровщиков» и «копачей». Пойманных выгоняли из шахт без права работать под землей, многих судили. Наряду с этим существовал принцип сменяемости по шахтам, а в шахтах — по забоям. Бригада, проработавшая месяц в бедной шахте, посылалась на другой месяц в богатую; помимо этого бригады в забоях перемещались каждую неделю, — этим заодно достигалось и уравнение условий работы, так как нормы не были диференцированы.
Как-то случайно я обнаружил сговор контролера с забойщиком. Возвращаясь поздно ночью из шахты, я, закуривая, случайно задержался у неплотно закрытого занавеской окна квартиры контролера. Против него сидел забойщик Голубицкий, не раз замеченный в шуровке. Перед забойщиком на большом платке — кучка золота. Он отделяет рукой немного меньше половины и пододвигает контролеру. Тот отталкивает. Забойщик добавляет еще немного желтого металла. Минута нерешительности, быстрый взгляд по сторонам — и взятка принята. Ночью при обыске у контролера нашли золото...
Еще не начав работать, иные новые рабочие уже мечтали о «достаче», искали пути к ней. Уже будучи управляющим прииском, я возвращался как-то из шахты в контору на прииск Александровский. Одет я был в шахтовый брезентовый костюм и кепку. Разъезжал я обычно в рессорном кабриолете, правил лошадью сам. Конь у меня был горячий и красивый — полукровка. Обгоняю рабочего с котомкой.
— Эй, товарищ, подвези! — кричит он мне.
Останавливаю коня:
— Садись!
Едем молча. Сдерживаю коня, порывающегося на крупную рысь. Через минуту вопрос:
— Давно работаешь здесь?
— Давно, — отвечаю я. — Около трех лет.
— И все время конюхом?
Я молчу.
— А лошадь-то подал, наверно, управляющему? — Ему.
— Ну, а управляющий у вас как, ничего?
— Кто его знает. Одни говорят — ничего, свойский, другие ругают. Разве на всех угодишь? А тебе зачем управляющий? Наниматься, что ли?
— Приехал надысь. Хочу проситься на работу, да не знаю, есть наемка?
— Наемка, я слышал, есть. Ты, часом, не плотник?
— Плотники мы, правильно.
— Так за чем же дело? Плотников прямо, говорят, до зарезу нужно.
— Не хотелось бы плотником. У вас на Чанчике, в четвертой шахте, говорят ребята, достача больно хорошая, перепадает золотишко, ребята хорошо живут. Хочу в гору проситься.
— Что ж, попробуй, может и удастся окрутить. Парень он молодой — управляющий-то.
Подкатываем к конторе. Мой спутник слезает с кабриолета, благодарит меня и идет в открытую дверь. Я прохожу через квартиру сторожа, переодеваюсь и иду в свой кабинет. Заведующий конторой уже выстроил очередь на прием. Быстро пропускаю народ. Вот неловко входит в кабинет мой недавний собеседник. На его лице внезапная растерянность и изумление.
— Наниматься, товарищ?— говорю я, легонько улыбаясь.
— Наниматься.
— Плотником, наверно?
— Плотником...
— Ну, получай, — даю ему записку в отдел вербовки.
Золото манило. Немудрено, что на Лену стремились уголовно-бандитские элементы. Преступники не останавливались перед прямым нападением на транспорт уже добытого золота. В один из июльских вечеров в главном управлении шло заседание. Оно затянулось до поздна. Окна в зале были открыты. На улице шел мелкий, пронизывающий до костей дождь. Вдруг до нашего слуха донесся характерный треск недружного ружейного залпа, за ним последовали одиночные выстрелы. Докладчик остановился на полуслове, но, прислушавшись секунду, продолжал свою речь. Вновь наступившую тишину разорвал резкий дребезжащий звук сигнальных звонков золотосплавочной лаборатории, соединенной секретной линией с милицией. Все вскочили и выбежали на улицу.
Звонки не переставали нервно звонить. По тракту со
стороны Артемовского прииска послышался топот лошадей
и из-за поворота вскачь вынеслась запряженная в кабриолет
белая лошадь старшего контролера, а за ней парная упряж
ка с кучером и милиционером. Депутата[1] с кружкой золота
не было.
По шее одной из лошадей из сквозной раны широкой полосой стекала кровь. Через несколько минут лошадь пала. Остальные лошади тяжело дышали, вздувая бока. У контролера была прострелена рука. Наконец к конторе подъехали исчезнувшие. Оказывается, когда кортеж с суточной добычей золота находился на полдороге к Надеждинскому, из кустов и леса, вплотную подходивших к дорого, раздался ружейный залп. Лошади рванули и понесли; депутат с кружкой золота выпал из тарантаса, задний конь встал на дыбы и понес обратно. Седок сообразил свернуть по дороге в Артемовскую милицию, оттуда дали автоматический| сигнал в лабораторию. Когда рванули лошади, старик — депутат, вывалившись из тарантаса, залег в придорожной канаве; пользуясь темнотой, он отполз в густые кусты и там лежал, крепко прижимая к себе кружку, пока не услышал по дороге топот подъезжающих милицейских лошадей.
Нападение окончилось неудачей.
Много усилий пришлось употребить, чтобы установить на приисках трудовую дисциплину. Особенно тяжко было со свежими людьми. Однажды, обходя шахту, я почувствовал присутствие дыма. Рабочие стали жаловаться, что дым мешает работать, разъедает глаза, что стволовой шахты, в которую поступает вентиляционная струя, зажег хмару — огромное железное ведро с горящим углем или дровами — и не хочет ее погасить.
Иду к шахте. Действительно, стволовой, родом мадьяр, из бывших военнопленных, жжет хмару. Спрашиваю, зачем он это делает, кто ему разрешил.
— А тебе какое дело? Кто ты такой? Катись отсюда!
— Я — главный инженер. Сейчас же погасите хмару, жечь ее здесь нельзя.
— Если ты главный инженер, то иди и командуй своей женой, а ко мне не суйся.
Хулиганское поведение стволового меня взорвало. Я еще раз потребовал немедленно погасить хмару и пригрозил вызвать милицию. Услышав мою угрозу, стволовой пошел на меня с гребком, которым разравнивал породу в бадье. Я стоял не отступая. Не знаю, чем бы кончилось дело, если бы рабочие и сопровождавший меня десятник не отняли у хулигана гребок.
Я приказал его уволить. Профсоюз опротестовал мое распоряжение, ссылаясь на несознательность рабочего, его иностранное происхождение и то, что он меня сначала не узнал. Я не согласился отменить распоряжение, хулигана по ходатайству союза устроили на прииске Надеждинском. Через несколько дней по какому-то пустяковому поводу он в драке убил ножом двух рабочих...
Молодежь, как правило, помогала в борьбе с лентяями и лодырями. Впрочем, общественное воздействие носило в те годы довольно примитивный характер. Дело обычно ограничивалось высмеиванием.
Недисциплинированность, однако, все больше уступала место сознательному отношению к труду. На глазах у нас рос культурный и технический уровень рабочих. На этой почве рождался трудовой героизм. Он, правда, не был органическим следствием пролетарской сознательности. Во многих случаях в основе его лежали материальные соображения. Но это не значит, что рабочий не помнил, что рудник, шахта, золото — принадлежат рабочему государству. Нельзя было без восторга наблюдать работу людей, например, на проходке особо трудных забоев.
Представьте себе забой — тупик горизонтального тоннеля. Сверху, с боков, спереди — отовсюду льется вода, иногда чистая, иногда мутная. Невинная на первый взгляд муть страшна и заставляет тревожно биться сердце людей. Вода непрерывно вымывает частицы земли; за сутки выносятся многие кубометры и тогда вверху, над деревянной потолочной крепью, образуется пустой свод — «купол». И вот потерявший связь с потолком этого купола крупный камень—валун, весом в несколько десятков, а иногда и несколько сот пудов, или огромная глыба земли рушится на крепление выработки, на оборудование, людей.
Холодная вода быстро забирается в перевязанные у кисти рукава, за шиворот, за пазуху. Хотя рабочий и одет в теплый ватный костюм, прорезиненные подкожаники, а поверх в просторные шаровары и куртку из юфтовой кожи и полуболотные тяжелые сапоги, все равно через два-три часа он промокает насквозь.
Жидкую породу, как тесто, выпучивает из забоя; приходится уплотнять ее клиньями с пучками шихтовой хвои или сена. Клинья забивают сплошь по всему забою. В потолок, параллельно полотну забоя, забивается сплошной ряд досок или палей[2] забивной крепи. Иногда такие пали приходится забивать и с боков забоя.
Прозевал забойщик или выпирающие плывуны сразу сломали несколько досок, — и над рабочими повисла угроза холодной и ужасной смерти под обвалившейся породой. Требуется поразительное присутствие духа и мужество, чтобы оставаться в забое и бороться со слепой силой разгневанной земли.
Ярко светит электрическая лампочка в передовом забое шахты № 8 Софийского прииска. Пахнет сеном, хвоей, смолистым лиственничным лесом и дегтем от жирно смазанных шляп, кожанов и сапог забойщиков. В простенках лучшие забойщики района — Онучин и Рогов. Весь забой забран толстыми полуторавершковыми досками. В путанице крепления работать тесно, но иначе нельзя: над потолком выработки залегает тридцатиметровый слой плывунов с валунами.
Закончили пробивку палей. Перебрали верхний ряд маскировки. Начали готовить материал для второго ряда. Вдруг сверху, в левом углу, с шумом прорвалась грязная вода. Дрогнуло сердце Онучина. Схватив несколько пучков и новую доску, он бросился в угол. Ему мешал тяжелый, набухший водой костюм.
Грязная вода перестала хлестать, но ненадолго. Вскоре вода прорезалась в углу Рогова. Он торопливо бросается к месту аварии Подручные лихорадочно готовят материалы. Ничего не помогло. Оглушающий треск. Лопнула доска и полужидкая масса поползла в дыру. Поток грязной воды хлынул на забойщиков, бросившихся с клиньями, пучками и досками останавливать прорыв.
Снова треск. Упал ряд досок маскировки, со зловещим шумом поползла порода, разбилась и погасла лампочка. Человек уже бессилен против слепой ярости природы. Едва вытаскивая ноги из вязкого засасывающего ила, забойщики поспешно уходили к шахте, унося с собой инструмент. Догоняя людей, хлынул поток воды с грязью.
Люди побежали. До шахты больше километра. Жарко. Брошены мешающие кожаны. Через два-три часа огромное шахтное поле, длиной больше полутора километров, было до потолочной крепи забито жидким илом. Под ним оказались похоронены рельсы, вагоны, оборудование электрической канатной дорожки. У конца передового забоя на дневной поверхности провалился «обратный купол» — воронка, глубиной в пятнадцать и диаметром в девяносто метров. Люди едва спаслись.
Много месяцев ушло на очистку и восстановление шахты, а передовые штреки так и не удалось двинуть дальше. Только в 1935 году стали снова осваивать богатейшую россыпь, лежащую вверх от шахты № 8 Софийского прииска.
Подобного рода работы были преобладающими в восстановительный период после многих лет разрухи и консервации. Нужны были железные, крепкие люди, с сильной волей, энтузиасты дела. Число таких людей росло с каждым годом по мере того, как росло и производство, стремительными шагами приближавшееся к максимуму довоенной добычи.
Половина инженерно-технического состава ленских приисков до 1923 года состояла из инженеров дореволюционного выпуска, большей частью служивших в «Лензото». Считая себя «аполитичными», не участвуя в общественной жизни района, они вели обособленное и весьма скучное существование, время от времени разнообразя жизнь вечеринками с неизменными картами, танцами и вином. Часть старых инженеров, несмотря на кажущуюся аполитичность, мечтала о невозвратном прошлом, представлявшемся ей чудесным раем; эти-то люди впоследствии и скатились к вредительству.
Другая часть старого инженерства со временем порвала с прошлым и пошла в ногу с советской властью К ней впоследствии присоединились и некоторые осужденные за вредительство инженеры Добросовестной работой, больше того — инициативой и энергией они загладили свою вину перед родиной и были досрочно восстановлены в правах, а некоторые даже награждены правительством
С 1923 года начали понемногу расти кадры инженеров советской формации, группировавшихся вокруг помощника главного управляющего приисками горного техника Ганина, тогда еще кандидата партии Ко времени передачи Лены в концессию таких инженеров собралось уже до десятка — по тем временам цифра внушительная Они составили актив советской технической интеллигенции, при помощи которой районный комитет союза горнорабочих хорошо наладил пропаганду техники среди рабочих. Никогда раньше не было так широко поставлено в районе чтение лекций для рабочих на самые животрепещущие технические вопросы Посещаемость лекций была очень большая Это не в малой степени помогало сближению молодых инженеров с рабочими.
Увеличились культурные потребности рабочих Широко и хорошо поставленная клубная работа, приглашенные профсоюзом из Москвы артисты, относительно полно укомплектованные библиотеки — все это привлекало в клубы много народу, особенно молодежи. Клуб с каждым годом все больше занимал досуг рабочих. Заметно меньше стало пьянства и особенно дикого разгула и резни, обычных в большие праздники — под новый год, рождество, пасху.
В июле 1924 года у меня родился второй сын. Ребята росли крепкими и славными русоволосыми сибиряками. Жена работала в клубе, заведывала библиотекой. Дома у нее всегда собирался кружок рабочих парней и девушек. Когда мне случалось в это время приходить домой, молодежь стеснялась, конфузилась. Меня это удивляло. Хотя я и носил длинные украинские усы, с которыми в двадцать восемь лет выглядел сорокалетним, я, как мне казалось, не был страшным. *.
Лето 1925 года было жаркое. Весеннее солнце быстро сгоняло снега. В Ленинском управлении вздувшаяся река Бодайбо угрожала разорвать дамбу и смыть центральную больницу и электростанцию, как она уничтожила станцию № 4.
Трое суток около тысячи горняков боролись с водой день и ночь. Разбившись на три смены, они наращивали дамбу, подрывали лед, возили камень, мох, бревна, гальку. Около трехсот лошадей посменно работали на подвозке. Я не спал трое суток, дежуря на дамбе; почти не отходил от телефона, связанного с главным станом управления. В конце третьего дня, когда вода достигла особо высокого уровня, сквозь дамбу побежали тонкие струйки воды. Казалось, что вот-вот стихия победит. Отталкивая багром льдину, я оступился и полетел в бушующий поток. Падая, я, однако, поймал ветви склонившейся над водою ракиты и с трудом выбрался на берег.
Через час вода, пошла на убыль. Поехал домой. Выпил стакан водки с перцем и, как был в рабочем, еще мокром платье, повалился на полушубок, брошенный на полу в кабинете. Проснулся я через тридцать часов. Ничего не соображая и не помня, я взглянул на ручные часы, остановившиеся на двенадцати. Кровь бросилась в голову: проспал!
Я стал нервно звонить по телефону:
— Как дела на дамбе?
Спокойный голос и смех вернули меня к действительности.
После изнурительной жары начались затяжные дожди. Вспыхнула эпидемия злокачественной дизентерии, которая косила не только детей, но и взрослых. Не уберегли детишек и мы. Заболел старший. Через несколько дней — второй. За ними свалилась няня, потом я. Последней заболела жена. Всех нас увезли в больницу. Больная жена не отходила от кроваток детей.
Приезжает в больницу председатель правления треста.
Что же это вы, Виктор Васильевич, в самый горячий момент?
Ничего, — успокаиваю председателя, — постараюсь поскорее выбраться отсюда.
Боюсь, задержите нас с составлением контрольных цифр и смет.
На другой день, почувствовав себя лучше, я выписался из больницы, а через сутки меня привезли обратно с тяжелым рецидивом. Через три дня ночью у нас на глазах умер младший, а несколько часов спустя и старший ребенок.
Опустошенных, неспособных плакать, увели нас с женой на квартиру врача. Особенно растрогало нас глубокое сочувствие рабочих лучшей забойной бригады Н. Я. Онучина и Н. О. Рогова.
Высоко на склоне Надеждинского гольца[3], выше общего кладбища, забойщики выкопали глубокую яму. Мой конь, который еще так недавно катал ребятишек, увез на кладбище два маленьких красных гробика.
Мы остались одни у холмика с двумя беленькими столбиками, соединенными медной доской с надписью: «от рабочих механического цеха»...
Глава восьмая
Осенью 1925 года Амосова перевели на другой прииск. Меня назначили управляющим и главным инженером Ленинского управления.
Докатились первые слухи о сдаче Лены в концессию. Не хотелось этому верить. Каждый из нас до конца полюбил выняньченное нашими руками, пробужденное нашим дыханием, нашей силой, советское предприятие.
Тяжело было нам, ленинцам: провели много подготовительных работ, накопили большие запасы песка и металла, ждущего только выемки, и пожалуйте! — концессия приходит на готовенькое.
Слух о концессии возник как-то сразу и сразу же распространился среди приискового населения, взбудоражив и взволновав всех. Ко мне часто приходили рабочие, особенно старые кадровые горняки, чтобы разузнать, в чем дело.
— Как же можно сдать в концессию! — говорил забойщик Копьев. — Мы сейчас подготовили богатые шахты. Как раз самое золото пошло и вот те на — концессия! Опять, наверное, придет Цинберг.
Мы, руководители приисков, ничего о концессии не знали. Что мы могли сказать рабочим? Как только слухи подтвердились и официально стало известно, что прииски сдаются в концессию и что в район приезжает уполномоченный концессии инженер Цинберг — тот самый, который до революции управлял группой приисков, где в 1912 году возникла ленская стачка, — недоумение и недовольство части рабочих стали приобретать осязаемую форму.
После приезда на Лену уполномоченного концессии инженера Цинберга в среде приисковых служащих начался разброд. Одни сразу же начали раболепствовать, докладывать, кто и как работал, кто и что из себя представляет. Другие, наоборот, стали в оппозицию к концессии и концессионерам. Преобладающее большинство молодых инженеров сходилось на том, что работать в концессии не стоит и не следует. Старшие возрастом инженеры в большинстве своем относились благожелательно к концессии, считая, что работать в концессии будет гораздо «легче», что с профсоюзами и партийными организациями, которые постоянно «вмешивались» в работу, можно перестать считаться. .
Районная газета «Ленский шахтер» в октябре 1925 года писала по этому поводу:
«Надо разбить мечты, что вернулось «доброе старое времячко». Но нельзя в этом вопросе перегибать палку, нельзя перебарщивать в своем революционном настроении. Партиец должен быть примером тактичного обращения со служащими. Беспартийному рабочему надо помнить, что цель у нас одна — добиться наибольшей для государства пользы».
Видно стало, что нам, молодым инженерам, и небольшой части близких нам стариков трудно будет увязывать наши советские взгляды с условиями работы концессии. Эту точку зрения мы коллективно изложили председателю треста. Он спокойно ответил, что правительство считает нужным передать предприятие в концессию, и если мы действительно люди советских взглядов, то должны повиноваться решению правительства, принятому по хозяйственным и внешнеполитическим соображениям. Концессионный договор требует, чтобы весь личный состав предприятий, в особенности руководящий, оставался на своих местах и продолжал работу. Скрепя сердце, мы обещали, что ни один из нас не покинет своей работы до срока, указанного в индивидуальных договорах.
Предприятие сдавалось в концессию на тридцать лет. Концессионный договор обязывал концессионера «Лена-Гольдфильдс» провести большие разведки, усилить механизацию производства, ввести новые механические агрегаты — драги[4] и в том числе одну из крупнейших в мире — 17,5-футовую электрическую драгу. На собраниях рабочие выражали сомнение в том, что концессионер заинтересован в развитии советских приисков.
— Ему бы побольше прибыли, — говорили рабочие. — Отработает шахты побогаче, снимет сливки и уедет. А механизация — тю-тю!
Как показало время, рабочие были правы.
Среди непролетарских элементов — у обывателей — концессия снова стала взращивать угодничество перед «высшими», грубость по отношению к «низшим».
Противоположная . крайность вылилась в озлобленное настроение к отдельным, особенно неумелым администраторам. Например, одного заведующего управлением — инженера— рабочие хотели вывезти на тачке.
После оформления передачи Лены в концессию — в первых числах ноября 1925 года — Цинберг выехал на прииски. Среди населения большой фурор произвело избранное Цинбергом средство передвижения. Обычно инженеры, вплоть до главного управляющего промыслами, ездили в рессорных кабриолетках, лошадью управляли сами. И вдруг на приисках появляется вместительный экипаж, запряженный парой, с кучером в старом бархатном кафтане, повязанном кушаком, и в шляпе с павлиньими перьями.
— Ну, теперь заведет старые порядки... — сокрушались рабочие.
Вскоре Цинберг созвал на прииске Надеждинском совещание с участием всех руководящих инженеров и заведующих горными работами. Цинберг требовал более экономного хозяйничанья, максимального сокращения подсобных рабочих. Концессия, по его словам, совершенно не нуждается в том, чтобы держать за свой счет «мамок», библиотеки, клубы, не потерпит никакого расхода материалов на непроизводственные нужды, а руководители приисков и начальники цехов должны стремиться к работе максимально экономной и рентабельной.
— Вы, пожалуйста, поменьше разговаривайте с профсоюзом и с ячейкой. Я даю жалованье, — вы меня и слушайте. А с организациями буду разговаривать я.
Тон, которым говорились эти слова, и само содержание речи произвели на меня тягостное впечатление. Но я помнил предупреждение председателя треста и сдержал себя.
Указания Цинберга сводились к тому, что надо сразу показать эффект хозяйничанья концессии, т е. максимально повысить добычу золота. Для этого в эксплоатацию были включены наиболее богатые шахты и участки.
В первое время мы не замечали тенденции к разрушению производства. Нас больше тревожил некоторый экономический нажим на рабочих и желание концессионеров ликвидировать все вспомогательные учреждения. Началось с ликвидации центральных ремонтно-механических мастерских на прииске Надеждинском Цинберг предложил сосредоточить все ремонтно-механические работы в механической мастерской при депо железной дороги в городе Бодайбо. Явная нелепица! Надеждинский прииск находится в центре приискового района — Ближней Тайги, тогда как Бодайбо отстоял от приисков на семьдесят километров.
Скоро мы поняли, в чем дело Концессионеры хотели сначала сохранить на существующем уровне, а затем сократить крупные хозяйские[5] подъемные работы и передать некоторые прииски старателям. Старатели будут добывать золото кустарным дедовским способом — зачем же им механизмы?
Хищническое отношение к Лене проявилось в сдаче участков старателям и субарендаторам. Арендаторская работа отличалась наиболее экстенсивным характером. Получив в аренду определенную площадь, арендатор сдает ее старателям-золотничникам, которых за право разработки площади облагает так называемым «положением» — определенной долей с каждого намытого золотника или грамма золота. Субарендатор наживается и на другом старатели обязаны покупать товары, материалы, инструменты только у него. Естественно, что арендатор заинтересован в большей наживе, а не в сохранении приисков и правильной их эксплоатации.
Полный расцвет арендаторских и старательских работ начался с 1927 года, когда они стали основной формой организации производства. Параллельно с развитием старагельских работ в конце 1927 и начала 1928 года началось стремительное «сокращение хозяйских подъемных работ и массовое увольнение рабочих и служащих.
В хищнической эксплоатации сданных в аренду полигонов и порче площадей нетрудно было увидеть и социальный смысл Сдача приисков арендаторам освобождала концессионеров от заботы о рабочих и, следовательно, от необходимости иметь дело с общественными организациями и органами государственного надзора. Вместе с тем распылялась рабочая масса, ибо старатели автоматически выбывали из членов профсоюза и становились уже неорганизованной частью приискового населения. И это, конечно, было на-руку концессионерам.
Труд старателей тогда еще не регулировался законом. Кабальные условия, на каких концессия сдавала прииски в аренду, иной раз ставили старателей в невыносимо тяжкое материальное положение.
Так как большая часть старателей постоянно должна была концессии значительные суммы, то в тех случаях, когда какой-нибудь артели удавалось намывать больше золота, значительная часть его удерживалась концессией в погашение долга.
«Такое положение... способствовало развитию хищения золота» (из отчета райкома союза горняков Ленско-Витимского горного округа. Декабрь 1928 г.).
Коммунисты — руководящие работники — с концессии ушли. Сразу же после передачи предприятия возник вопрос, как же бороться с хищением золота. До концессии партийная организация выделяла надежных товарищей — контролеров по борьбе с хищениями золота. Но как быть теперь? Возникла даже дискуссия.
«В вопросах борьбы с хищением мы должны определенно заявить, что хищников мы покрывать не будем, но вести борьбу с хищением не наше дело Если попался хищник пусть его судят по советским законам Если же это будет партиец, то к нему мы должны применить вдвойне строгие меры» (передовица из «Ленского шахтера» за 1925 год).
Глава девятая
Со слов Цинберга мне передали, что он считает меня способным и нужным инженером. Относился он ко мне чрезвычайно внимательно, тем не менее сразу же после перехода предприятия в концессию я написал Цинбергу, что с окончанием индивидуального договора — 1 июня 1926 года — я его не возобновлю и с Лены уеду Цинберг отверг мое заявление. Он настаивал на том, чтобы я продолжал работать в концессии.
— Может быть, тебя не устраивает жалованье? (Седой
Цинберг всем говорил «ты».) Ты сколько получаешь? —
спросил он меня.
Я получал четыреста рублей. Он тут же распорядился увеличить мою ставку до пятисот пятидесяти рублей.
В данном случае деньги меня не столь интересуют,— сказал я ему. — Дело не в материальной стороне. Я принципиально не желаю работать в концессии.
Но почему?
Я откровенно высказал свою уверенность в том, что концессия не двинет вперед Лены, что она снимет золотые сливки, получит возможность восстановить номинальную ценность своих акций на мировом рынке и после этого бросит предприятие.
Цинберг замахал руками:
— Что ты, что ты! Пока я здесь работаю, этого не будет. Ты ведь знаешь, что я хороший хозяин. Я не допущу, не могу допустить, чтоб предприятие хирело или разрушалось.
Он сильно жестикулировал, но ни в чем меня не убедил.
У Цинберга можно было многому научиться. Инженерные знания он, видимо, давно растерял, но хозяйственником — правда, старого типа — был отличным Рано утром, часов в шесть, а то и раньше, он уже, бывало, звонит по телефону:
— Виктор Васильевич! Да? Сколько сегодня забоев в
каждой шахте?
В это время в шахтах еще только шла раскомандировка. Естественно, что так рано я не мог сказать, сколько в каждой шахте забоев. Но стоило мне честно ответить «еще не знаю», как тут же сыпались упреки:
— Долго спите. Да-да, долго спите! Не следите за служащими, потому и раскомандировка еще не произведена.
Чтобы не вступать с ним каждый раз в пререкания, я усвоил манеру сразу же отвечать: в такой-то шахте столько-то забоев, в такой-то столько-то, хотя точно сам не знал, сколько на каждую шахту вышло народу. Но Цинберга не так-то легко провести. Как бы хорошо он ни относился к человеку, он все же не доверял ему: «вдруг надует»... И Цинберг тут же проверял, насколько верны полученные от меня сведения. Не успевал я положить телефонную трубку на рычаг, как в соседней квартире, где жил мой помощник Сорокин, раздавался телефонный звонок и я слышал голос Сорокина: на такой-то шахте столько-то забоев, на такой-то столько... Сорокин, с которым мы уславливались с вечера, повторял цифры, которые я только что называл Цинбергу. Надо сказать, что мы не очень грешили против истины, выдавая предположительные цифры за действительные: число выходящих в шахты рабочих и количество забоев были более или менее стабильными; только после воскресенья, когда народ выпивал, могли быть прогулы.
Бережливый до скупости, всеми помыслами обращенный на то, чтобы выжать еще рубль, еще два, Цинберг попытался сократить расходы, связанные с экономическими и бытовыми льготами рабочих. Он помнил то время, когда на Лене работали по десять часов в день.
Продолжая оставаться членом профсоюза, я был связан профсоюзной дисциплиной и, с другой стороны, дисциплиной, устанавливаемой концессионерами. Положение создалось двойственное, как бы. между молотом и наковальней. Требования концессионеров шли в разрез с коллективным договором и советским законодательством о труде.
Суровая сибирская зима. Топлива мало, а отапливать рабочие жилища надо. Я распорядился брать на топливо подаваемые из шахты коротыши крепежного леса и отходы пиломатериалов с лесопильного завода — коротыши, горбыли.
Однажды меня срочно вызвали в главное управление к Цинбергу В кабинете главного управляющего, куда я зашел, сидел инженер Савельев, Цинберг и главный механик Лазаревский. На столе лежал большой кусок горбыля, длиной метра в полтора, очень толстый в комле и тонкий в конце.
— Вы что же это, транжирите дорогой материал! — с гневом обращается ко мне Цинберг — Хотите меня совсем без рубашки пустить! Посмотрите, чем вы отапливаете бараки. Это же целая доска! Это же вещь! А вы ее сжигаете в топках.
Он говорил настолько быстро, что я не мог и слова вставить в его речь.
— Сегодня у вас был на прииске Михал Михалыч,— продолжал скороговоркой Цинберг. — Он встретил рабочего, который вез целый воз таких горбылей. Понимаешь: целый воз! Он остановился конечно, и спрашивает: «Куда, братец, везешь?» А тот говорит: «Топить». Понимаешь топить!
Наконец я получил возможность говорить.
— Как известно, — начал я с подчеркнутым спокойствием, — топить нечем. Дров нет. Не держать же рабочих в холодных помещениях. Концессия обязана снабжать рабочих дровами в первый год бесплатно по определенной норме. Заодно я хотел, бы услышать, на что можно этот горбыль использовать.
— Из него еще можно выпилить дощечку. Она пойдет
на ремонт! И потом, где же я тебе наготовлю лес? Ты по
думай, ты что, с ума сошел?
Последняя тирада меня окончательно разозлила. Я сказал Цинбергу, что прошу сейчас же освободить меня от работы.
— Ну, что ты волнуешься?.. — забегал он по комнате. — Может быть, у того рабочего, который вез эти отходы, была только одна доска, — разве я знаю? Может быть, Михал Михалыч не рассмотрел...
У Михаила Михайловича прекрасное зрение, — ответил я. — Мы топим печи именно такими отходами.
Иди, успокойся, — уже мирным голосом говорит Цинберг. — Но, понимаешь, все-таки жалко...
Концессия решила ликвидировать и перевести главное управление из Надеждинского в Бодайбо. На прииске Надеждинском имелись хорошие здания главной конторы, школы, лаборатории, дома для администрации, лучший в районе рабочий клуб, рабочие дома. Все это концессия обрекла на снос. Надеждинский находился в центре приискового района. При условии сохранения крупных подземных работ, он еще много лет мог бы играть большую роль в приисковой жизни. Но концессионеры сворачивали работы, естественно, что Надеждинский был им не нужен.
Цинберг стал сопротивляться предписанию концессии. Почти целый год велась телеграфная переписка. Но директор-распорядитель концессии инженер Малоземов упорно шел к цели. И Цинберг уступил, но покинул концессию.
— Понимаешь, — говорил он мне позднее, когда я
встретил его уже в качестве главного инженера в маленьком южно-якутском управлении Союззолота, — ведь это же сволочи... Я уже перестал быть инженером, — продолжал Цинберг после небольшой паузы, — но я остался неплохим администратором. Вы, молодежь, работаете по-новому, работаете горячо. Буду и я, — вздохнул он, — помогать вам.
Цинберг покинул концессию; он ушел с большого жалованья, ушел из дела, в котором был неограниченным хозяином, обеспеченным всем, что только можно пожелать. Его роскошная квартира на Надеждинском была полной чашей; не было прихоти, которой он не мог бы удовлетворим, На далекой заброшенной Лене, в зимнюю стужу, вьюгу и морозы, в день семейных торжеств на его столе понизились свежие южные фрукты и цветы. Он все это бросил, променяв концессионную роскошь на обычные условия советского приискового инженера, — сначала на Алтае, затем в Якутии.
Глава десятая
На место одного Цинберга приехало двое: Крюгер и Смит. Они стали интенсивно проводить политику концессии, политику Малоземова. Малоземов, как и Цинберг, работал на Лене до революции. В прошлом он — социалист-революционер, кажется, побывал даже в ссылке. Великую Октябрьскую революцию Малоземов встретил с ненавистью, от былой его «революционности» не осталось и следа, он бежал в Америку, принял американское подданство, затаив в себе злобу к победившему пролетариату. Неспроста выбор капиталистов при назначении директора-распорядителя концессии пал на Малоземова.
Прииски опустели. Когда-то многолюдные поселки На-деждинского, Весеннего, Александровского, Кропоткинского, Андреевского — разрушены. В огне погибло хорошее здание Ленинского рабочего клуба, которое мы строили три года.
За поселками настала очередь технических сооружений. Разобраны на дрова сплотки приисков Александровского и Артемовского, перебрасывавшие воды реки Бодайбо через шахтное поле. Воды Бодайбо хлынули в долину. В первую же весну погибли многокилометровые подземные вассер-штреки[1], помогавшие стоку воды из шахт. Сколько миллионов рублей понадобилось потом, чтобы восстановить все это! Немало сооружений погибло безвозвратно.
Район был обескровлен. Лену покинули лучшие горняки. Концессионеры в первую очередь увольняли кадровых рабочих, оставляя на прииске неорганизованную, политически слепую массу новых рабочих.
В первые годы концессии массовое увольнение рабочих оправдывалось якобы начинаемой в широком масштабе механизацией производства. Но увольнения ни в какой мере не соответствовали механизации.
В 1929 году председатель правительственной комиссии, посланный на прииски для ознакомления с работой концессии, сказал корреспонденту газеты:
«К сожалению, надо признать, что в отношении капиталовложений концессией сделано слишком мало в сравнении с тем, что требует район.
Сейчас Лено-Витимский район переживает тяжелый кризис, в связи с вышеуказанной основной причиной. За исключением установки драги, вся остальная деятельность концессионера сводится к хищнической добыче золота старателями» («Ленский шахтер», № 109. 22 сентября 1929 г.).
Как оказалось, общество «Лена-Гольдфильдс» не обладало капиталом. Этим, видимо, и объяснялось упорное стремление концессионеров к конфликтам, третирование советского законодательства, завоз в район недоброкачественной, почти негодной для эксплоатации драги устаревшей конструкции. Драга сразу же потерпела тяжелую аварию.
Чаша терпения правительства переполнилась. Концессионеру сделали последнее предупреждение о необходимости выполнить принятые на себя обязательства. Концессионеру дали трехмесячный срок для ликвидации Допущенных им нарушений договора.
На приисках вспыхнула забастовка протеста против экономических и политических безобразий, допущенных концессионерами.
Концессионеры ушли с Лены после того, как прииски были ими основательно разрушены.
Я не дожил на приисках до их развала. За два месяца до окончания срока договора я заявил об уходе. 29 мая 1926 года на мое место был назначен Буглевский. Я начал сдавать предприятие новому управляющему. В последний день одно обстоятельство едва не помешало моему выезду из района.
Утром 31 мая, обходя работы, я заглянул в участок, где бригада забойщика Ивана Васильевича Ногаева под наблюдением десятника вела обрушение. В обрушаемой выработке сильно била вода. В сторону отработанного и уже обрушенного отделения шло круто-наклонное полотно. Место было явно опасное и недопустимое для работы Каждая секунда грозила обвалом. Я тут же сделал замечание сопровождавшему меня заведующему шахтой Григорьеву и приказал немедленно прекратить работу и перевести об-рушителей в другой участок. Заведующий шахтой указал десятнику, куда их перевести.
Я обошел шахту и вернулся в подземную раскомандировочную. Едва я успел развернуть раскомандировочный журнал, как в помещение ворвался рабочий.
— На обрушении завалило ребят! — закричал он.
Бежим к месту происшествия. Впереди нас уже спешат рабочие. Трагическая весть быстро распространилась.
Вот и просечка, в которой я был недавно. Она битком набита народом. Отбираю десяток старых рабочих и прошу их вытеснить толпу из просечки. Это удается с большим трудом при сопротивлении собравшихся.
Посредине просечки, до пояса засыпанный глинистой и вязкой породой, машет руками молодой рабочий, сын бригадира Ногаева. Испугавшись обвала, он бросился бежать, но вязкая порода сковала ноги и завалила его до пояса.
— Где остальные? — спрашиваем его. — Где твой отец?
— Там, — с отчаянием машет он в сторону обрушенной кровли. — А служащий[2] подо мной.
Вокруг в беспорядке валялась опрокинутая, частью переломанная крепь, з'асыпанная породой. Вызываю из толпы лучших забойщиков:
— Онучин, Рогов, Клецков, Капелюшов, Раков, Ракеев...
В просечке появляются смелые люди. В их руках кайлы и лопаты. Посылаю вызвать по телефону фельдшера и предупредить о случившемся главноуправляющего и начальника горного округа. Двое рабочих начинают энергично откапывать младшего Ногаева. Трое крепят просечку, чтобы предупредить дальнейшее обрушение. Остальные расчищают проход к заваленной выработке. Откопали Ногаева по щиколотки. Пытаются его вытащить, но вязкая порода не отпускает жертву. Усилия дюжих забойщиков грозят оторвать парню ноги. Надо убрать породу начисто. Наконец Ногаев освобожден.
Спасательные работы продолжаются. Через час пробили небольшое отверстие. Видно, как, скрючившись под упавшей шаткой крепью, в небольшом свободном пространстве сидит с огарком свечи забойщик Сентимов. Еще полчаса осторожной работы—и проход расчищен настолько, что Сентимов вылезает. Немного дальше лежит ничком бригадир Ногаев. Он сбит с ног ударом внезапно обрушившейся кровли, его ноги придавлены породой.
Крепь еле держится и каждую секунду может упасть. Холодные струи воды непрерывно поливают нас сверху. Все уже давно промокли насквозь.
Уставших забойщиков заменяют новые.
В отверстие полез только что выхваченный из когтей смерти рабочий Сентимов. Все затаили дыхание. Сентимов подполз к лежащему Ногаеву-старшему. Вот он подал ему обе руки и крепко вцепился кисть с кистью. Следом за Сентимовым пополз второй забойщик и крепко вцепился в ноги Сентимова.
— Тащи, ребята, веселей!
Дюжие руки хватают за ноги отважного товарища и тянут.
— Ой-ой-ой... Ноги... Ноги больно!.. — кричит Ногаев.
Лица людей покраснели от натуги.
— Пошел! — радостно кричит забойщик, уцепившийся
за ноги Сентимова.
Крик нечеловеческой боли, а затем иронический возглас Ногаева:
Товарищи, подождите: сапоги остались...
Ур-ра! — кричат рабочие. — Чорт с ними, с сапогами! У концессии много.
Через минуту Ногаев среди нас. Фельдшер подходит со шприцем, намереваясь ему что-то впрыснуть. Ногаев отмахивается:
— Вот кабы спиртишка стакан.
У запасливого фельдшера есть и спиртишка. Старик Ногаев единым духом проглатывает стакан чистого спирта.
Остается спасти десятника. По словам Ногаева-сына, десятника «в момент» сшибло ударом подхвата[3] и засыпало породой.
Двое забойщиков осторожно кайлят породу в указанном Ногаевым месте. Четверо других, ударяя кайлами во-всю, подготовляют пространство вокруг. Вдруг одному из них показалось, что на конце кайлы будто мелькнули волосы И действительно: клок волос и кожа. Нагнулся, разгреб рукой — голова. Кудрявая голова человека! Еще один удар—и кайла проткнула бы череп десятника. Осторожно разгребают породу. Лицом вниз, головой в перекрестьи двух толстых бревен лежит десятник. Ноги придавлены толстым сорокасантиметровым бревном. Откопали до пояса. Пульс есть. Пустое пространство между бревнами не дало задохнуться. Фельдшер обнажает руку десятника и вытаскивает шприц. Человек без сознания. Двое рабочих держат его туловище. Надо пилить дерево. Пилить нельзя — пространство не позволяет размахнуться пилой. Колоть? Но каждый удар может вызвать новый обвал, крепить же мешает человек. Четверо забойщиков начали осторожно, откалывая щепку за щепкой, колоть толстое бревно долотом Долго длилась работа. Уже половина бревна разрублена. Короткий предупреждающий шум... Люди вскакивают, бросаются вон — через минуту на этом месте снова ничего нет, кроме массы земли да кудрявой головы десятника.
Снова откапывают Снова упорно работает долото и молот. Снова фельдшер втыкает в руку заваленного иглу шприца. Десятник открывает глаза. Еще десять минут и он свободен, а четверть часа спустя выработка окончательно рухнула.
Наверху тем временем у ствола шахты собралась тысячная толпа, настроенная далеко не доброжелательно к администрации. Спасенных подняли в клети. Наверху их подхватили с криками радости.
Глава одиннадцатая
Три года непрерывной работы на производстве, потеря двух сыновей, работа в концессии стоили мне много сил и здоровья. Летом 1926 года я получил возможность осуществить мечту о длительном отдыхе на юге, у моря. Выбрали Сочи. Но добраться до курорта нам так и не удалось. Жена находилась накануне новых родов. Пришлось застрять в Туапсе. Через несколько дней у нас родился сын, которого мы назвали Витимом в память о реке Витиме, на которой расположено Бодайбо.
Кончались деньги. Я поехал в Москву, где мне предложили работать старшим консультантом по золотой промышленности в Наркомфине СССР, в отделе валютных фондов. Эта должность с лихвой заменила мне прерванный отдых; при всем желании я больше чем на два-три часа никак не мог набрать себе работы. Мне это так надоело, что, когда меня вызвал к себе в кабинет начальник отдела валютных фондов Борис Евграфович Алдаданов и познакомил с председателем правления треста Алданзолото, предложившим поехать на Алдан в качестве главного инженера, — я раздумывал недолго.
Правление треста Алданзолото помещалось в Староконюшенном переулке, в тихом особнячке, с комнатами, застланными коврами и уставленными мягкой мебелью. Там произошла моя первая встреча с техническим директором треста инженером Подьяконовым — пожилым человеком, небольшого роста, очень живым, подвижным, с острыми проницательными глазами. О нем слыхал я многое и не всегда приятное. Особенно много нелестного рассказывали о его деятельности в одной из частных золотопромышленных компаний, которая до войны вела разведочно-поиско-вые работы на золото в районе реки Алдан. Компания была явно авантюристической, и ее работы кончились ничем.
В первой половине марта владивостокским курьерским я выехал на Алдан. В правлении треста меня предупредили об исключительно тяжелых жилищно-бытовых условиях на Алдане. Я поэтому поехал один, оставив семью у родителей. Вместе со мной на Алдан поехала группа топографов и геодезистов. На ст. Сковородино, откуда начинается гужевой путь на Алдан, мы прибыли с опозданием на сутки.
Снег, которого в тех местах вообще бывает мало, уже растаял. Отправка на прииски представляла большие трудности. Охотников ехать было мало. Пришлось ждать, пока транспортная контора Алданзолота подыщет нам подводы. На это ушло около недели.
Наконец контора нашла подводчиков. Рано утром 1 апреля мы выехали.
На двадцать четвертый день пути стали попадаться приисковые работы. На зимовье Криводушинском нас задержал обоз медленно шагающих верблюдов. Наши лошади остановились в ожидании, пока пройдут верблюды, а мы все побежали в долину, где были видны шурфовые работы. Стали расспрашивать рабочих, есть ли золото, что нового на Алдане.
Наконец мы добрались до Незаметного. Здесь, в центре приискового района, находились окружные советские, профсоюзные и партийные организации и главное управление Алданзолота.
Принимая приглашение работать на Алдане, я поставил одним из условий предоставление мне широкого права подбирать и привлекать работников, в особенности инженеров. Еще до отъезда я пригласил в качестве моего заместителя инженера Евгения Ивановича Орлова, знакомого мне по ленским приискам.
В Незаметном знали, что мы приезжаем, но квартир нам не отвели. Мы с Орловым устроились на чердаке единственного хорошо срубленного дома, в котором помещались квартиры главноуправляющего промыслами инженера Бури-нова и других ответственных работников.
Первое наше желание было — хорошенько попариться в бане. В Незаметном тогда на пять-шесть тысяч народу приходилась одна частная баня. Она была всегда переполнена, горячей воды нехватало, зато вдоволь было крика, шума, приисковой брани.
Договорившись с банщиком, мы хорошо помылись после десяти часов вечера, когда баня официально закрывалась. После почти месячной тряски в пути вода показалась особенно прозрачной, пар особенно горячим и желанным. Сибиряки утверждают, что систематическая парка в горячей бане с хорошим березовым веником и следующее за этим обливание холодной водой или купанье в снегу чрезвычайно способствует долголетию. Не знаю, насколько это верно; применяя эту систему, я, во всяком случае, ни разу не болел простудными болезнями.
Со следующего дня я начал знакомиться с приисками и людьми.
Алданский промышленный район находится в южной части Якутии к югу от реки Алдан. Работы Алданзолота в то время велись на площади, покрытой хвойным лесом, преимущественно лиственницей, реже сосной, кедром и елью. Позднее территория Алданзолота значительно расширилась.
Собственно золотопромышленные площади Алданзолота сосредоточивались по притокам реки Алдана, Селигдару с притоками (главный — Ортосала), по Якокуту и притокам Б. Нимгера
Меня удивила малочисленность коренного населения района. Несколько родов кочевых орочен или тунгусов занимались охотой на белку, соболя, лося и медведей Остальное население, составлявшее в 1927 году около шестнадцати тысяч человек, состояло из пришлых людей, главным образом, китайцев и корейцев.
Геологи давно предполагали, что на Алдане есть золото. В дореволюционные годы золотопромышленники не раз посылали на Алдан приисковые партии, но ни одна из них не напала на след россыпей. Приисковые партии промышленника Опарина «застолбили» площади по реке Томмоту всего в нескольких километрах от богатых площадей, найденных в 1924 году Неудачей кончилась и экспедиция золотопромышленной компании, которую возглавлял инженер Подьяконов. Партия прошла долину реки Селигдар всего в десяти или пятнадцати километрах от ключа Незаметного.
Неудачи дореволюционных промышленников способствовали тому, что богатый золотоносный район сохранился в девственном виде до 1924 года. Открыл алданское золото якут Тарабукин. Летом 1924 года, промывая породу в ключе, Тарабукин нашел золото. Закрытая густым лиственным лесом широкая плоская долина с едва заметным, высыхающим в летнее время ключиком таила в себе колоссальное богатство. Когда слухи об открытии золота дошли до Якутска, в долину пришла партия разведчиков во главе со старым золотоискателем Вольдемаром Петровичем Берти-ным. Разведчики построили на реке Ортосале укрепленное становище-блокгауз и начали искать золото. Они разыскали ключ, открытый Тарабукиным, и назвали его Незаметным. В ключе, под слоем пустой породы, или, как говорят, под слоем торфов в полтора метра, а иногда и меньше, скрывался богатый золотоносный пласт.
Слух об открытии золота быстро распространился. В район начали прибывать старатели с Амура. За амурцами потянулись бодайбинцы. Летом 1925 года на Алдане было уже больше двенадцати тысяч старателей. Они разбрелись по району и производили шурфовку в местах, где месторождение золота им казалось наиболее вероятным. Если они находили металл, то сейчас же разрабатывали площадь, стремясь взять наиболее богатые участки и забрасывая менее богатые.
В 1924—25 году жизнь на Алдане была чрезвычайно дорога. Все расчеты производились на золото. Денежных знаков в районе почти не было. Продовольствие доставляли на оленях, лошадях и верблюдах с Амура, за семьсот верст. По дороге не было населенных пунктов, и обозы должны были, помимо груза, везти фураж на весь двухмесячный путь туда и обратно. На каждый пуд полезного груза брали полтора пуда фуража...
Дороговизна начала несколько ослабевать после того, как открыли водный путь на Алдан по Лене до села Саны-яхтат, находящегося километрах в трехстах пятидесяти выше Якутска, откуда по тайге шла гужевая зимняя дорога до приисков.
Старатели добывали золото хищнически. Выхватывались богатые участки и тут же заваливались породой. При таком отношении к золотоносной почве, только немногие добивались удовлетворительных результатов. Авантюристы, которых было много среди хлынувшей на Алдан за наживой публики, сыграли на настроении неудачливой части старателей. Они распространили слух об открытии якобы чрезвычайно богатых площадей на реке Тырканда, в четырехстах километрах от собственно алданского района. Слухи о богатом золоте заразительны. Масса людей хлынула в 1925 году на Тырканду. Частные предприниматели, поехавшие с товарами следом за старателями, пронюхали об отсутствии золота, быстро распродали продовольствие и поспешили уехать. Старатели в панике побежали с Тырканды назад. На четырехсоткилометровом пути, на котором не было ни одного человеческого поселения, за исключением становищ бродячих орочен, нашел безвременную гибель не один десяток людей. Тыркандская трагедия повлекла массовый отлив рабочих с Алдана. Это совпало с моим приездом в Незаметный.
Я прежде всего решил объехать все прииски и познакомиться с людьми, с разведочными работами, с подсчетом запасов открытого золота.
В 1927 году большинство алданских рабочих составляли амурцы. Среди них было много китайцев. Они не понимали русского языка и находились вне поля зрения партийных и профсоюзных организаций.
Китайцы обычно объединялись в артели. Старшина («старшинка», по местному выражению) небольшой артели находился в зависимости от более крупного предпринимателя, арендовавшего у треста довольно большие золотоносные площади. На весь район были известны одноглазый китаец Ин-до, хорошо говоривший по-русски, и кореец Ли Кенмуни. По сути дела оба эти кулака вершили судьбы всего китайского и корейского населения района.
В 1926 и 1927 годах трест сдавал в аренду большинство приисков и таким образом как бы освобождал себя от хлопот. Дело с рабочими-старателями имели арендаторы. Трест же держал на каждом прииске уполномоченного — смотрителя горных работ.
Специалистов на Алдане было очень мало. Главноуправляющий промыслами Буринов много лет работал в акционерных компаниях на Амуре. Инженер старой школы, он был воспитан на арендной политике, открытых работах и старательстве. Поэтому и на Алдане он проявил себя апологетом арендаторской системы организации производства. Второй инженер на Алдане — Николай Николаевич Александров попал на прииски прямо со студенческой скамьи и не мог еще играть существенной роли в производстве. Остальной кадр специалистов состоял исключительно из практиков, по преимуществу работавших ранее на Амуре, реже на Лене. Хорошие знатоки производства, они в большинстве случаев плохо разбирались в экономике, а политически были невежественны. Идеологическая сторона организации производства, так называемая «политика производства», находилась в руках инженера Подьяконова.
Правление Алданзолота стало привлекать на Алдан довольно крупных администраторов и хозяйственников-коммунистов.
Новые люди отличались большой активностью. На Алдане началась борьба: с одной стороны—старые специалисты: Буринов, Подьяконов и большинство практиков с Амура, с другой — коммунисты, молодые беспартийные советские инженеры и большинство практиков-ленцев.
Глава двенадцатая
Борьба началась с разведок.
В золотой промышленности разведки имеют две основные стадии: поисковую и предварительную, детальную.
В первой стадии разведчики должны сказать, есть ли в районе золото, где именно, на каких ключах и речках. Работа ведется разбросанно, каждый объект исследуется небольшим количеством разведочных выработок, на основе предварительного изучения района геологами. Во второй стадии разведчики золота уже более детально изучают каждый ключ или речку, в которых поисковая разведка нашла золото.
Жизнь и работа разведчика в рассыпной золотопромышленности настолько специфична, методика отыскания золота, рассыпанного в ничтожном количестве в наносах речных долин, настолько своеобразна, что хорошим разведчиком золота—не ремесленником, а художником своего дела — надо поистине родиться. Надо чувствовать и любить аромат суровой и красочной жизни в тайге. Ведь и то сказать, — разведчик первый несет культуру в неизведанные дебри.
В стадии поисковой разведки небольшие группы разведчиков парами («спарками», как говорят на приисках) расходятся по ключам исследуемого района и на указанных руководителем партии местах бьют линии шурфов—вертикальных выработок в форме колодца. Шурфы пробиваются сквозь толщу наносов до золотоносного пласта, каждая линия, в которой шурф от шурфа отстает на десять—тридцать метров, должна пересекать долину поперек.
Шурфовые работы разведчики ведут обычно зимой. Летом тайга почти непроходима из-за болот, и вода не дает углублять шурфы. Зимой на месте шурфа раскладывают костер. Оттаявшую породу выбрасывают наружу лопатой. Так вершок за вершком день ото дня углубляется шурф. Но вот встретилась вода. Близкое появление ее разведчик определяет по многим признакам, и горе ему, если он ее прозевал: вода быстро затопит шурф и погубит всю работу. Опытный разведчик заблаговременно заметит появление воды. Тогда он сразу прекращает работу. Ему на помощь приходит мороз. Быстро промораживается талый грунт, и снова вершок за вершком выбирает его разведчик, пока не встретит воды.
В глухой тайге далеко друг от друга разведчики рубят крошечные зимовьюшки. Целую зиму живут разведчики в таинственном лесу, где только куропатки да белки нарушают тишину. Время от времени на зимовье заглянет десятник, еще реже привезут на оленях с базы разведочной партии продовольствие, почту, расскажут новости — и снова тихо.
Короток зимний день, длинна северная ночь... Нужно очень любить свою работу, природу, тишину, одиночество, чтобы не заскучать. Разведчик ставит капканы на зверя, промышляет в свободное время белку, изредка встретит и подстрелит дикого оленя или козу. Тогда вдоволь свежего мяса на зимовье.
Разнообразней жизнь бурового разведчика. Этот — постоянно в движении. Пробурив скважины на одном ключе, он переезжает на другой, с другого на третий. Бурение идет быстро: от одного до нескольких метров в смену, в зависимости от крепости грунта. Буровому рабочему некогда строить себе зимовье: он лето и зиму живет в палатке. Зимой брезентовая палатка устанавливается на невысоком — около метра — срубе, а летом просто на земле. Зимой палатка иногда делается двойной, покрывается сверху мешками, с боков подваливается снег, а внутри постоянно топится маленькая железная печка. Зимой вдоль стен — деревянные низкие нары, летом — ворох душистой хвои.
Выбурена линия, палатка быстро свертывается, и лег кий ручной бур погружен на нарты. Если снег мелкий, переход совершается быстро и просто. По глубокому снегу труднее пробираться лошадям, обслуживающим бур в работе. Сначала олени, за ними люди на лыжах проминают дорогу, и только после этого ступает лошадь.
Летом, навьючив снаряжение и домашний скарб на лошадей и оленей, весело и шумно, как цыганский табор, пересекает тайгу по неизведанным тропам разведочная партия. Головы, закутанные от мошки в черные сетки, ноги, обутые в мягкие ичиги, за плечами ружья... Далеко-далеко слышны удары стального долота в грунт при бурении. Издали виден дым костров, зажигаемых в защиту от мошки. Только по этим признакам находишь при объезде рассыпавшиеся партии разведчиков. Тебя окружают и атакуют молодые, загорелые на воздухе и солнце люди. Всем хочется узнать новости...
На шурфовой разведке преобладают пожилые, опытные горняки, знающие повадки воды и плывунов, умеющие крепить, привыкшие к одинокой жизни. Они любят говорить о золоте, его капризах, спутниках. Любят вспоминать открытия, разочарования, неудачи. Геологи-самоучки, они снисходительно слушают рассуждения специалистов.
Рабочие буровой разведки, особенно на ручных бурах — по преимуществу молодые, здоровые парни, с налитыми от непрерывной работы долотом мускулами. Среди них нередко можно встретить и женщин. Здесь уже другие разговоры — о технике бурения, о геологии, рационализации труда.
Полна неожиданностей и случайностей жизнь разведчика. Он стоит лицом к лицу, один на один с природой, с тайгой и ее таинственным миром. Это отсеивает слабых, закаляет сильных. Люди волевые, инициативные, закаленные физически, они, однако, часто совершенно беспомощны в шумном обиходе города.
Когда не было экспедиций, инженеры-разведчики и студенты-геологи жили на Алдане коммуной, иронически именовавшейся «монастырем». «Настоятелем» этого безбожного «монастыря» был начальник геолого-разведочного сек-тора, питомец Горной академии инженер Иван Ефимович Серегин, в просторечьи «отец Ефимий». Высокого роста, широкоплечий, он был на голову выше «монастырской» братии. Критический ум выделял его среди прочих геологов, — людей сугубо романтических и увлекающихся.
— Погоди, погоди, отец Роман! — останавливает Серегин не в меру увлекшегося молодого инженера Н. — Ну-ка, повтори еще раз. Я что-то не понял.
Н. повторяет рассказ, но уже без прежнего пыла и несколько сбавляя краски.
— Общий комплекс коренных пород, наличие контактовых оруденелых полос, характер эрозионной деятельности и распределение гидрографической сети безусловно позволяют считать район сплошь золотоносным...
— Погоди, милок! Ты все же поконкретней.
Н начинает говорить «поконкретней» и вскоре выясняется, что в расхваливаемом им районе никакой сплошной золотоносности нет. Зато выплывают конкретные данные золотоносности другого района.
Н — типичный представитель геологической молодежи, живущей в созданном ею мире романтики в дополнение к романтике природы и быта. На совершенно юном лице— солидные баки; на ногах — напоминающие мокасины индейцев тунгусские расшитые бисером унты из оленьего меха, высокие до паха, подвязанные к поясу ремешками из лосинки; на поясе — мешочек из оленьей кожи с трутом, кремнем и кресалом и якутский нож; на плечевом ремне — револьвер; в зубах — трубка. Он, как и многие его сотоварищи, любит и зимой жить в палатке, хотя часто можно жить в более удобном помещении. На эксплоатационников смотрит несколько снисходительно: «рожденный ползать — летать не может». Пишет стихи. И неплохой геолог.
Серегин, в прошлом учитель, умел, не обижая и не огорчая, сводить молодежь с высоких подмостков увлекательных, но мало обоснованных гипотез к практическим задачам добычи золота.
— Знаете, — признался мне как-то молодой геолог, — у меня мысли рождаются в процессе разговора.
К сожалению, приходилось наблюдать, что у некоторых впадавших в крайности геологов именно так и получалось: не факты рождали выводы, а выводы приходили в процессе разговора или писания доклада. И это было большим злом, уменьшавшим, а иногда и сводившим на-нет ценность работы. Мне, геологу по специальности, но переставшему «летать» и начавшему «ползать» в сфере претворения материалов геологов и разведчиков в конкретные формы производства — в шахты, разрезы, драги, экскаваторы, гидравлики, — очень претила эта склонность пренебрегать интересами практической работы, отвлекаться в сторону широких обобщений, оторванных от конкретных задач. С такими людьми я иногда бывал резок, быть может деспотичен, но ничего не поделаешь — надо было строить Алдан.
Персональный подбор разведчиков имеет исключительно важное значение. И не только потому, что суровые условия жизни требуют отбора сильных телом, крепких духом, легко уживающихся друг с другом людей. От честности и качества работы зависит иногда весь успех разведки. Стоит рабочему на щурфовке умышленно или по небрежности неправильно расположить выкид породы из шурфа или смешать породу — и результат опробования негоден. Проверить же работу почти невозможно. Стоит рабочим на буровой разведке бросить в скважину несколько ничтожных крупинок золота — и результат разведки испорчен. Прииск Ленский, ключ Золотой, Усмун, Хрустальный — живые свидетели небрежной разведки. На Ленских приисках старожилы рассказывают, как до революции некто, подкупленный администрацией «Лензото», подсыпал золото в буровые скважины. Разведка, конечно, показала богатые пробы. Золотопромышленник развернул большие работы и прогорел. Его площади за бесценок скупило «Лензото».
Трест Алданзолото широко повел разведки. Сотни геологов разошлись по району. Разведочным делом, в виду его исключительной важности, руководил Подьяконов. Он разработал новый метод подсчета запасов и организации разведочных работ.
За два года разведочные партии Алданзолота выбили несколько тысяч шурфов и скважин. Но почти ни одной промышленной площади, которая по своему содержанию и запасам соответствовала бы экономике добычных работ, в районе не было. Удивительно! При сравнении результатов разведочных работ с последующими результатами эксплоатации бросилось в глаза другое. Данные разведки обычно никогда не сходились с тем, что добывалось впоследствии на разведанной площади: золота оказывалось либо значительно больше, чем предполагали, либо значительно меньше. Это заставило меня критически отнестись к примененному в районе методу организации разведочных работ и, главное, к методу подсчета промышленных запасов. Чтобы окончательно составить себе мнение по этому вопросу, надо было серьезно и внимательно изучить имеющийся материал. А пока что следовало немедленно принять какие-то меры, чтобы удержать предприятие от катастрофического падения добычи золота и добиться в первое время хотя бы стабильности производства. Бегство рабочих с приисков продолжалось, в старательском населении крепко засела мысль, что на Алдане золота уже нет, делать здесь нечего, надо бежать.
Всех волновал вопрос: что с разведкой? Вначале говорили преимущественно о высокой материи: о методике организации разведки, подсчета запасов, о выборе мест для разведки. Серьезной критике подвергалась установленная Подьяконовым система сплошной разведки и подсчета запасов по выработанному им аналитическому методу. Жаркие дискуссии, происходившие в присутствии самого Подьяконова, доходили до взаимных оскорблений. Студенты-практиканты московской Горной академии, геологи поисковых партий — отрицали даже то положительное, что содержалось в предложенной Подьяконовым системе разведочных работ. Жизнь на каждом шагу била предложения Подьяконова и показывала, насколько они неверны. Нам пришлось установить поправочные коэфициенты к подсчету. Подьяконов, конечно, резко возражал.
Впоследствии мы узнали, что он был вредителем. Проводившийся им подсчет запасов оказался вредительским.
План разведочных работ 1928 года был составлен мною. Но главноуправляющий забраковал его. Я отказался нести ответственность за разведку, построенную, как мне казалось, по неверному плану. Тогда главноуправляющий подчинил разведочное управление непосредственно себе. В конце 1928 года управляющий уехал в полугодовой отпуск. В его отсутствие мы пересмотрели план разведочных работ и включили в него те площади, которые он исключил. В частности, мы решили повести разведки у речки Большой Куранах. Жизнь оправдала наши надежды. Разведки на Большом Куранахе обнаружили значительные запасы с богатым содержанием золота.
На Алдане я встретил много старых рабочих, знакомых по прежней работе в Бодайбо. Бодайбинцы всегда расспрашивали меня, как идут дела на Лене.
— Эх, отдали район, — вздыхал забойщик Капелюшев. — Такого района нам не найти. Здесь, на Алдане, совсем не то. Не самостоятельные россыпи идут.
«Самостоятельные» россыпи — значит широкая богатая россыпь. «Несамостоятельная» россыпь то прерывается, то становится узенькой. Словом, негде развернуться горняку. Бодайбинцы часто мечтали о том, как хорошо было бы завести на Алдане хозяйские подземные работы, да вот нет «самостоятельных» россыпей... И действительно, по данным разведок казалось, что их нет.
В первые же дни после приезда на Алдан мне пришлось срочно выехать на прииск Малый Куранах. Старатели бросили там работу и потребовали приезда администрации треста. Собрание происходило в конторе приискового управления. В небольшой домик набилось много народу. После того как все закурили махорку, при свете керосиновой лампочки почти ничего не стало видно. Начались речи. Рабочие говорили, что они не могут больше работать на Куранахе, что разведка их обманула, золота нет, «положение» большое, не остается и на хлеб, придется уехать. Угрозы эти не были пустыми. Больше половины старательских делян на Куранахе уже пустовало. Что мы могли сказать, не представляя себе ясно, в каком направлении идут россыпи? Собрание закончилось ничем. Мы обещали пересмотреть «положение» и серьезнее заняться горно-подготовительными работами.
Такие же собрания происходили и на других приисках.
Именно в это время собирались сдавать в аренду китайцу Ин-до крупный прииск на Усмуне. Усмун, по данным трестовской разведки, обладал невысоким содержанием золота. Россыпь могла в лучшем случае служить объектом для дражных работ. Тем не менее Ин-до постоянно обивал пороги главного управления, упрашивая трестовиков сдать ему этот прииск в аренду.
Главноуправляющий и представитель правления треста согласились. Молодые специалисты и заместитель управляющего Кармашев возражали против этого, полагая, что настойчивость арендатора объясняется тем, что у него имеются более полные данные о золоте в Усмуне. Молодая часть технической администрации предлагала еще раз разведать Усмун или, на худой конец, ограничиться контрольной разведкой.
Одержала верх первая точка зрения. Прииск сдали в аренду. Ин-до спешно сколотил две большие группы старателей, преимущественно из корейцев и китайцев. Они начали работу с двух концов прииска — верхнего и нижнего. Скоро нам стало известно, что старательские шурфы, пробитые на верхнем участке, показали хорошее золото. Слава об Усмуне моментально распространилась по всему району. К Ин-до начали стекаться старатели. Тогда он повел работы и на нижнем участке.
Арендатор обложил старателей большим «положением», а во время подготовительных работ снабжал их продовольствием. Старатели становились все в большую зависимость от арендатора. Ин-до начал снижать нормы выдаваемых продуктов. Это совпало с моментом, когда выяснилось, что значительная часть старательских делян на нижнем участке имеет гораздо меньше золота. Наступила зима, морозы. В стужу работать в воде можно только в спецодежде, а ее не было. Старатели начали уходить с прииска. Возникла угроза, что все проделанные работы пропадут даром.
В трест поступили жалобы на невозможные условия работы у арендатора, на жестокую эксплоатацию. Старатели спрашивали, почему трест не отберет прииск у арендатора и не разработает его своими силами. Профессиональная и партийная организации поддержали старателей. Комиссия треста, в которую входил Кармашев и я, обследовала Усмун. Мы пришли к заключению, что следует прекратить действие договора с арендатором и начать разработки прииска силами треста.
Почему, однако, только одного прииска? Среди нас все более разгорались споры. Надо, требовали мы, окончательно изменить самый принцип организации старательских работ.
Вскоре предприятие отказалось от взимания «положения». Старателям установили твердый заработок. Они теперь могли уже разрабатывать не только богатые россыпи, но и площади относительно обедненные, которые при производстве подготовительных работ за счет предприятия могли вполне удовлетворить старателей. Такой порядок организации старательских работ, естественно, гарантировал и правильность эксплоатации полигонов.
Благодаря этому мероприятию удалось прекратить отлив старателей. В 1928 году число рабочих на Алдане даже увеличилось. Надо было разрешить другое сомнение: почему данные разведки опрокидываются действительностью? Изучение материалов привело меня и инженера Серегина к выводу о несовершенстве применяемого метода подсчета Мы заподозрили в этом методе сознательное «мизерирование», т. е. преуменьшение запасов.
Золотоносные площади по реке Ортосале. например, считались «бедными», годными только для разработки мощными 13½-футовыми электродрагами. Так они значились в ведомости промышленных запасов. Но эти россыпи были настолько небольшими и мелкими, что ставить там 13½-футовую драгу было бы нелепо технически и экономически. После того как мы ввели поправочный коэфициент к данным разведки, площади у Ортосалы оказались годными не только для дражных работ. Это, конечно, открывало иные перспективы перед районом. Можно было перейти к стабильным хозяйским работам. Предприятие, таким образом, приобретало характер крупного индустриального целого, не зависящего от случайностей.
Первые неуверенные попытки хозяйских работ были сделаны в 1927 году. Для этого на прииске Золотом выделили участок россыпи. Для организации их на Золотой назначили прибывшего с Лены Амосова. Вначале масштаб хозяйских работ был сравнительно небольшим, тем не менее, пришлось столкнуться с трудностями. Рабочих мы вербовали среди бывших старателей, не привычных к систематическим горным работам. Установленные по опыту других районов нормы оказались велики и вызывали недовольство. Работа затруднялась также отсутствием технически грамотных людей и никуда негодной связью.
В 1927 году дорог на приисках не было. Зимой сообщение поддерживалось санным путем. Летом можно было проехать только по тропам верхом.
В тайге, под слоем мха и корневищ деревьев — вечная мерзлота, оттаивающая летом на один-полтора метра. Оттаивая, верхний слой мерзлоты образует болото, в котором безнадежно вязнут ноги лошадей; трясина иногда доходит лошади по брюхо и выше.
Телефонов на Алдане тогда было пять: по одному в каждом из четырех управлений и один в главной конторе. Как трудно приходилось при таких примитивных формах связи приисков!
Помню, однажды ранним июньским утром, вернее ночью — часа в два, когда на улице барабанил дождь, уже две недели поливавший тайгу, кто-то настойчиво постучал в слуховое окно чердака, где я жил со своим заместителем. Страшно не хотелось вылезать из-под теплого одеяла, ради предосторожности покрытого сверху брезентом, — сквозь тесовую крышу протекали струйки воды. На чердаке темно, как в подвале. Бегу к слуховому окну. Сквозь открытую дверцу вижу на верхней ступеньке лестницы чернеющую в предрассветном сумраке фигуру в брезентовом плаще с капюшоном. Узнаю сторожа главной конторы.
Виктор Васильевич, — тревожно говорит он мне — вас просят к телефону с Золотого управляющий.
Что там случилось?
Говорит — потоп. Разрез хозяйский затопило, разорвало водой канавы.
Сон сняло, как рукой. Намокшие ступеньки скользки. Мрачны и неприветливы серые деревья гольца и разбросанные в беспорядке домишки прииска. На улице — ни души.
Вот и главная контора — нелепое деревянное здание из нескольких пристроек, связанных вместе. В трубку первобытного телефонного аппарата едва слышен бас старика Амосова. Не столько слышу, сколько догадываюсь, что он говорит.
Вечером в руслоотводной канаве на Золотом стала прибывать вода. Почва, набухшая за две недели дождей, начала отдавать лишнюю воду в ручейки и реки. Вода стала резко прибывать. Предусмотрительный Амосов еще вечером распорядился открыть в плотине все ставни. Немного спустя, вода принесла дерево. Его заломило поперек устоев плотины. Образовался затор. Сторожа прозевали, и через несколько минут вода разорвала недостаточно широкий земляной борт. Поток хлынул в хозяйский разрез. Поплыли таратайки, тачки, выката. Горняки побежали к разрезу. В темноте среди бушующей воды люди спасали инвентарь, с таким трудом завезенный на Алдан...
Не дослушав до конца сообщение, швыряю трубку и посылаю сторожа на конный двор за лошадью. Пока я сбегал на свой чердак одеться, мне привели лошадь — тощего одра под старым, изувеченным седлом.
По хлюпающей грязи, рысью ухожу на голец. Кругом нетронутый лес. Скоро узкую тропу перерезала запутанная сетка древесных корней. Слезаю, иду пешком. Долго тянется спуск. Вот и ключ Ленский, который старательская артель бросила весной, не встретив ожидаемого золота. Линия старательских зимовьев пуста. Рамы из домишек вынуты, дверей нет. Кое-где из труб тянется дымок.
Дорога пошла перевалом на ключ Золотой. Оставшиеся пятнадцать километров придется итти пешком: лошади больше невмоготу, она отказывается итти, попав в трясину, и ложится на бок. Я трачу последние силы, стараясь ее поднять. Жалею и ругаю себя за то, что не взял конюха. Сапоги давно полны воды, насквозь промокла одежда. В дождевой пленке показался Золотой... Долго блуждаю в поисках дороги между старыми щурфами и ямами в залитой водой долине. Надо переправиться на противоположный склон. Прошло девять часов после выезда с Незаметного, девять часов на 22-километровый переход.
Начальство прииска и рабочие — в разрезе. Проглатываю полстакана спирта и иду туда. Сотни две рабочих, руководимые управляющим, несут бревна, камень, мешки с песком, чтобы заделать прорыв в канаве. Стихия уже укрощена, но разрез испорчен, его приходится чистить и приводить в порядок.
К вечеру, будто издеваясь над людьми, небо неожиданно проясняется. Дождя как не было. Приходит звездная ночь, за ней веселый жаркий день. Наутро старатели высыпают на деляны, налаживают бутарки, покосившиеся валки, чистят разрезы. Начинается жизнь, сломанная было стихией.
Составление графика восстановительных работ, собрание старателей и беседы с ними — на это уходит четыре дня. И вот я «еду» обратно. Каторжный путь приходится снова проделать большей частью пешком.
Да, без дорог — никакого Алдана не построишь и прочной промышленности не создашь! Заместитель главного управляющего В. М. Кармашев вложил много энергии в это дело, пока не поборол косности правления треста и местных работников, считавших, что старателям-де дороги не нужны.
Кармашев лично руководил изысканиями дороги, соединившей Незаметный с тремя основными золотоносными районами: Джеконда—Золотой-—Куранах. Осенью 1927 года дорогу начали прокладывать, в 1928 году на протяжении пятидесяти километров был проложен почти хороший колесный путь, по которому в 1929 году уже бегали автомобили.
Политическое и экономическое значение нового советского золотопромышленного района как для всего Союза, пак и для народного хозяйства Якутии было столь велико, что в 1927 году правительство решило строить автомобильный амуро-якутский тракт, длиной в семьсот пятьдесят километров, от ст. Б. Невер, Уссурийской ж. д., до Незаметного и дальше — до пристани Укулан на берегу реки Алдана.
В 1929 году на прииски пришли самоходом первые грузовые автомобили. Весь путь они проделали в несколько дней. Старожилы невольно вспоминали поход по тому же пути пяти гусеничных тракторов завода «Большевик» в 1926 году. Переход продолжался почти два месяца: начался зимой и окончился в распутицу. С чем только не встречались водители тракторов, оказавших впоследствии столько неоценимых услуг нашему Алдану! Они шли в полутораметровом снегу, переходили реку по воде поверх зимнего льда, одолевали оттаявшие болота, непролазную грязь, камни гольцов. А по дороге — почти ни одного жилья! С какой радостью встретил Алдан первые машины и как мы их любили — этих предвестников социалистической индустриализации!
Глава тринадцатая
В той разношерстной толпе, которая стихийно нахлынула на Алдан, было немало людей несоветских, классово враждебных. Развитие и укрепление индустриальных форм золотодобычи неизбежно должно было укрепить район, что шло в разрез с умонастроениями этой публики. Немудрено, что после перехода предприятия к крупным хозяйским работам на Джеконде и на Золотом эти люди исподволь вели агитацию. Летом 1928 года забастовки на приисках Золотом и Джеконде были плодом деятельности классово-враждебных элементов, пробравшихся на Алдан, к золоту.
Как только наметились первые признаки брожения среди рабочих прииска Золотого, там созвали общее собрание. Несколько человек азартно выступали «от имени всей группы рабочих» с протестом против установленных норм, называя их «кабальными». Демагогов разоблачили старые горнорабочие. Сбитые со своих позиций, горлопаны стали жаловаться на... дожди: трудно-де работать под дождем.
После разъяснительной работы и некоторых изменений тех норм, жалобы на которые оказались основательными, работы продолжались нормально. Но в первый же небольшой дождь рабочие прииска Золотого, под влиянием все тех же чужаков, бросили работу и вызвали к себе управляющего. Он пришел в разрез, обошел работы, затем собрал рабочих в круг и с самым серьезным видом сказал:
— Вот что, ребята! Я сейчас послал на Незаметный за брезентовым полотнищем в десять тысяч квадратных метров. Как только привезут брезент, мы с вами натянем его над всем прииском и тогда вы будете работать в совершение сухом помещении. А пока брезент не привезли, не бузите.
Рабочие расхохотались. Больше недоразумений на прииске Золотом не было.
На Джеконде, более отдаленнном от Незаметного, влияние чуждого элемента было значительно сильнее. Поговаривали даже о подготовке нападения на транспорт с золотом. Нейтрализовать действия классового врага удалось благодаря довольно значительной партийной прослойке среди рабочих. Бригады горняков, созданные из партийцев и комсомольцев, показывали, что нормы выработки вполне соответствуют реальным возможностям.
Начало хозяйских работ в общем прошло успешно. Когда после пересмотра данных о запасах золота выяснилось, что россыпи по реке Ортосале пригодны для хозяйских работ, мы решили перейти к подземным работам.
В конце 1928 года во главе золотой промышлености был поставлен Александр Павлович Серебровский. Он сразу обратил внимание на Алдан, в то время крупнейший и наиболее обещающий золотоносный район. В одной из первых же своих поездок на прииски он посетил Алдан.
Алданцы были очень рады, узнав о назначении Сереб-ровского, за которым шла слава крупного хозяйственника, прекрасного организатора, поставившего на высокую ступень механизации и мастерства нефтяную промышленность. Партия и правительство, рассуждали мы, ставит на золото одного из наиболее видных большевиков-хозяйственников и техников. Значит, дело пойдет! Золотая промышленность перестанет быть отсталым видом горного дела.
Серебровский приехал зимой. Он совершил обычный путь на лошадях по снежному тракту. Сразу же после приезда на прииски он захотел познакомиться с руководящими работниками, в том числе и со мною. Я пришел на квартиру нового главноуправляющего. Серебровский пожал мне руку и спросил:
— А баня у вас есть?
— Есть.
— Хорошая?
— Мы считаем, что хорошая, хотя на вид она очень плохая.
— Хорошо бы попариться после дороги.
Я ответил, что за отсутствием других удовольствий почти каждый день хожу в баню и сегодня тоже собирался туда. Могу его проводить, кстати вместе попаримся. Серебровский охотно принял мое предложение. В бане, пересыпая разговор шутками и примерами из своих наблюдений в Америке, откуда он незадолго перед этим вернулся, Серебровский неожиданно задавал какой-нибудь технический или касающийся практической работы вопрос. Вопросы его всегда следовали неожиданно за нейтральными шутками. Я не догадывался, что это он изучает меня и дело.
Незаметно разговор перешел на тему о вредительстве, об использовании в золотой промышленности опыта старого инженерства, пусть когда-то участвовавшего во вредительстве, но желающего теперь загладить вину перед страной. Он спросил, как работал на Алдане Подьяконов Я подробно рассказал о всех затруднениях с подсчетом запасов и как мы вышли из них. Рассказал и о том положительном, что видел в знаниях Подьяконова.
Не отдохнув и дня, Серебровский выехал на прииски. В Ороченском управлении он обошел работы, расспросил подробно о системе разработок, о нормах выработки, как мы собираемся поднимать породу из шахт, освещать шахты, отливать воду, проходить дренажную выработку.
— Это же кустарщина! — воскликнул Серебровский, услышав наши объяснения. — Что вы делаете! Перестаньте проходить канавы вручную. Ведь это же адский труд! Сколько рабочей силы непроизводительно расходуется на проходку таким путем! Надо дать парочку экскаваторов для этих работ.
Мы рассказали о нищенской механической базе приисков. У нас во всем хозяйстве был один локомобиль. Серебровский записал, что нам нужно для механизации. Мы попросили два одноковшевых экскаватора, паровые лебедки, несколько локомобилей и котлов. Он тут же составил телеграмму в правление Союззолота с предложением все это подыскать и сразу отправить на Алдан.
С Орочена поехали на Усмун, где шли в то время старательские работы. Серебровский всю дорогу делился впечатлениями от поездки в Америку, рассказал, как там разрабатываются россыпи, какие в Америке богатые механизированные рудники. На Усмуне мы пробыли недолго. Серебровский обратил внимание на то, что россыпи в Усмуне, сложенные мягкими наносами, как бы созданы природой для дражных работ.
— Эх, — вздохнул он, — надо поскорей кончить с вашей
кустарщиной. Только портите россыпи.
И это было верно.
С Усмуна мы через Незаметный проехали на прииск Золотой и Джеконду.
Когда мы проезжали через Курянах, я сказал Серебров-скому, что разведка открыла здесь большие запасы золота.
— Почему же не начинаете?
Я ответил, что россыпь отличается от Ороченской большим количеством воды. Здесь нужны водоотливные средства — насосы, моторы, локомобили.
— Это все мы вам дадим очень быстро. Скорей заканчивайте разведку. Надо развертывать золотую промышленность. Золото сейчас нужно стране больше, чем когда бы то ни было. Перестаньте работать по-старинке.
Подъезжая к Незаметному, я лихо разогнал лошадей и резво остановил их, завернув у квартиры управляющего. Вылезая из саней, Серебровский с подчеркнутой вежливостью поблагодарил меня. Пожимая мне руку, он сказал:
— Жаль, что ты пошел не по специальности. В тебе
пропадает замечательный кучер!
Смеясь, он скрылся за дверью.
Вечером в квартире управляющего собрались инженеры и высшая администрация. После чая заместитель управляющего трестом Абрамович, чрезвычайно жизнерадостный, не унывающий в самые трудные минуты человек, отколол такого казачка под гитару, что впору какому-нибудь балетному мастеру.
Серебровский хитро спросил:
— Наверно, любите выпить, а сейчас меня стесняетесь? Яков Евгеньевич хоть и хорошо протанцовал, но вижу по физиономии, что ему хочется выпить. Да вы не стесняйтесь...
Мы сконфузились, как дети. На таких вечерах мы выпивали — правда, в меру.
Вино скрашивало скуку, царившую тогда на Алдане. Жили мы только местной газетой «Алданский рабочий» Газета плохонькая, выходила редко, пережевывала одно и то же, почти не освещая событий, происходивших за пределами Алдана. Это еще больше усугубляло нашу оторванность от внешнего мира. А как мы жаждали свежих газетных новостей! То было время борьбы с троцкизмом и зиновьевской оппозицией, затем борьбы с правым уклоном Газету, газету! — Нет газет. Центральные газеты приходили случайно, всегда пачками за месяц и больше.
Читали мы только то, что завозили в район новые люди. Книги зачитывались в лоск. Помню, один из прибывших на Алдан инженеров привез три томика Гелсуорси. На книги сразу составилась очередь. Они переходили от одного к другому, пока их окончательно не зачитали. К владельцу книги вообще не возвращались.
Культурные потребности населения должен был удовлетворять рабочий клуб, построенный в 1925 году на отчисления от намыва золота старателями прииска Незаметного. Это было неуклюжее темное здание, которое содержалось довольно грязно.
Мы подробно ознакомили Серебровского с бытом администрации и рабочих. В то время большинство служащих, административно-хозяйственных работников и специалистов приезжало на Алдан одинокими. Жилищ почти не было, условия жизни на приисках в те годы были суровые. В первое время на Алдане одна женщина приходилась на двадцать-тридцать мужчин. На этой почве возникало немало конфликтов, в том числе и довольно печальных. За внимание женщины, за ее любовь велась борьба. Она почти в равной мере пронизывала быт старателей, рабочих, специалистов. Даже организация питания среди русской части населения была построена по принципу группировок вокруг женщины — то ли жены какого-нибудь работника, то ли одинокой, пришедшей на Алдан за «фартом» В 1927 году существовала столовая руководящих работников главного управления — человек на пятнадцать. Помещалась она в небольшом зимовье, почти на берегу дражного разреза драги № 1. То была «главная улица» прииска Незаметного. Вдоль ключа, по самому краю изрытой старательскими ямами и разрезами долины, тянулся ряд жалких лачуг — зимовьев, с крошечными окнами и почти плоскими крышами из тонких бревен. В 1927 году среди домишек появились два-три одноэтажных, чисто срубленных дома под тесовыми крышами. «Улица» тянулась от здания главной конторы далеко вверх по течению ключа и разветвлялась на несколько кривых уличек. Вниз от главной конторы по правому берегу ключа такая же «улица» вела в долину р. Ортосалы; она заканчивалась зданием центральной больницы. В дождливые дни уличка превращалась в сплошное месиво вязкой глины, в которой безнадежно утопали ноги пешехода. В нашей столовой царила пышнотелая, с голубыми, слегка на выкат глазами, русоволосая Эльза. Сильный грудной контральто, веселая улыбка делали Эльзу предметом поклонения столовников, людей по преимуществу молодых. Каждый видел в соседе соперника, каждый старался привлечь к себе внимание женщины, казавшейся всем поразительно красивой. Но Эльза никому не отдавала предпочтения. Она каждому посылала улыбку, кокетливый взгляд, пожатье, а то и поцелуй украдкой. Где-то на Амуре у Эльзы были дети, муж. Зачем она попала на Алдан?..
Но соперничая и подозревая друг друга все столовники объединялись чувством неприязни к молодому Л. управляющему одной из дальних групп приисков Красивый молодой парень, высокий и стройный, он зачастил в Незаметный. не ленясь отмахивать верхом пятьдесят-шестьдесят километров туда и обратно по бездорожью. И каждый раз, приезжая в Незаметный, непременно являлся в нашу столовую, открыто ухаживал за Эльзой и получал, нам казалось, в ответ более ласковые, чем мы, взгляды. Даже кушанья, подозревали мы, подавались ему вкуснее.
Атмосфера накалялась. Готов был вспыхнуть пожар. если б не одно событие, почти как в классическом романе.
Рано утром компания столующихся была в сборе и сидела за столом в ожидании завтрака. Эльза необычно запаздывала. Повар-китаец на раздраженные вопросы отвечал из-за двери:
— Чичаза!
Утреннее июльское солнце заливало горячим светом побеленную комнату. Как гармонировала бы с этим светом Эльза с копной русых волос, в своей светлой блузке! Но Эльзы нет.
Неожиданно на улице раздался топот. К дому подъехал Л., ведя в поводу вторую лошадь под седлом. Тут же из двери выпархивает в шароварах Эльза, и не успели мы очнуться от неожиданности и выскочить на улицу, как лошади почти с места взяли в галоп. Через минуту-две они уже были на подъеме в гору. Мы увидели, как Л. остановил лошадей и прикрепил к седлу небольшой узелок Эльзы.
Огорченные столовники, верные памяти беглянки, именем Эльзы окрестили один из вновь открытых ключей (правда, без золота) в Джекондинском управлении. Наша потребительская коммуна распалась. Большинство, в том числе и я, перекочевали в столовую китайца Саши, хотя вечно оставались недовольны обилием бобового масла, которого никто не терпел. В конце года Кармашев и я перешли на домашнее питание, объединив около себя группу товарищей. Вела наше хозяйство управляющий делами главного управления С—а. отличный организатор и хороший товарищ. «Производством» ведала наша «мамка» — Дуся, непревзойденная искусница по части кулинарии. При том однообразии питания, которым отличался тогдашний Алдан, Дуся непостижимым образом ухитрялась кормить исключительно вкусно. Какими тающими во рту пирожками угощала она нас два-три раза в неделю по утрам! Именно у нее за столом был съеден первый огромный огурец, выращенный на Алдане, размером почти в целый фут. Увы, он оказался невкусным и почти без зернистой сердцевины.
На Алдане меня постоянно удивляло пьянство. Коллективные гулянки с опьянением до положения риз были на Алдане обычным явлением. Появление пьяных на улице или в общественном месте считалось чуть ли не в порядке вещей, — будь то рабочий или инженер. А на Лене самое умеренное потребление спиртного кем либо из руководящих работников-партийцев влекло за собой партийное взыскание.
Нужно было много настойчивости и тяжелого труда, чтобы перевоспитать людей. Для этого прежде всего требовалось создать на Алдане нормальную человеческую жизнь. За пять лет упорной работы Алдан стал крупным механизированным золотопромышленным предприятием с крепкими пролетарскими кадрами, в быту которых остались лишь воспоминания старожилов о пьяной экзотике первых лет борьбы за золото. Да осталось еще угасаюшее поверье: кто, едучи на Алдан, попьет ортосалинской воды в верховьях реки, забудет или бросит прежнюю семью и заведет другую. Это поверье крепко жило на Алдане в 1927—28 году. Повлияла, очевидно, ортосалинская водичка и на меня… Меньше чем через полтора года пребывания на Алдане я потерял жену, оставшуюся в европейской части Союза.
Лето 1928 года было в разгаре. Во-всю шла перестройка производства. От моей работоспособности — я это понимал — во многом зависел успех дела. Нужно было держать в руках все нити перестройки. Нужно было держать в руках себя... Тяжело, заживала рана. Быть может, она бы долго еще болела, не столкни меня жизнь с человеком, сочетающим женственность с глубиной натуры и широким интеллектуальным развитием.
Она была «нашей»—бодайбинкой. Отец ее во время русско-японской войны пропал без вести в бою под Мукденом. Мать, много лет работающая поварихой в центральной приисковой больнице, сумела при поддержке врачей дать единственной дочери образование. Девочка, превратившаяся в красивую девушку, в 1919—20 году работает учительницей на ленских приисках. В Иркутске открывается университет, и она поступает на медицинский факультет. Университет окончен, — куда ехать? На Лене — мать, но работа на концессии не по душе молодому советскому врачу. Молодой врач выбирает Алдан. Работники Союззолота пугают дорогой, но трудности только подзадоривают девушку.
В ясный августовский вечер, возвращаясь домой из конторы, я наткнулся на странную кавалькаду. Впереди верхом на лошади — знакомый работник страхкассы, за ним тоже верхом, крошечная женщина в огромных синих шароварах и ичигах. На голове поверх панамы безобразная черная сетка от мошкары. Сзади плетется вьючный конь. Оказывается, приехала женщина-врач.
От непонятного и необъяснимого, внезапно вспыхнувшего смущения тороплюсь пройти мимо. Вечером с инженером, который знаком с молодым врачом еще по Лене, идем нанести «визит».
Беленькая комнатка. За дощатой перегородкой — семья председателя райкома союза горняков. Капитальная стена отделяет комнату от «монастыря» — общежития шести инженеров, веселых и милых разведчиков. Нас встречает белокурая, с открытыми серыми глазами, девушка. Она держится так просто, что сразу чувствуешь себя как дома. У товарища с ней много общих воспоминаний. Мне почти нечего сказать. Но я стараюсь казаться интересным и перебираю в голове темы, которые могли бы обратить на меня внимание девушки. Немного странное поведение для человека, проделавшего уже довольно сложный жизненный путь! Все, что я ни говорю, кажется мне самому пустым и нестоящим. К счастью, много говорить не надо. Заметив неловкость нового знакомого, девушка тактично перебивает его и весело начинает рассказывать, как она одолела семьсот километров бездорожья.
Привязанность к новой знакомой росла и крепла. Настало время, когда видеть ее каждый день хотя бы на минуту стало органической потребностью. День, в который я ее не видел, казался пустым и потерянным. Вскоре мы поженились.
Глава четырнадцатая
После отъезда А. П. Серебровского мы с большим подъемом стали форсировать подготовительные работы для больших шахт.
Многие ключи и речки Алданского района, где намечались прииски, не имели названий. Поэтому всякий новый ключик и золотоносная площадь называлась часто по имени руководителя нашей страны, либо работников, так или иначе проявивших себя на Алдане. Вновь открытым богатым приискам по реке Большой Куранах было присвоено имя Иосифа Виссарионовича Сталина — прииски Нижне-Сталин-ский, Средне-Сталинский и Верхне-Сталинский. В Орочен-ском управлении прииск назвали именем руководителя золотой промышленности — Верхне-Серебровский. Площади, расположенные от этого прииска вниз по течению реки Ортосалы, были названы Средне- и Нижне-Серебровский.
А. П. Серебровский сдержал свое обещание. Скоро в Ла-ринский поселок у ст. Б. Невер, откуда отправлялись грузы на Алдан, начали поступать паровые лебедки, моторы, динамомашины, локомобили, экскаваторы. Не дожидаясь окончания разведки полигонов в целом, мы начинали работу на отдельных участках, чтобы поскорее приступить к эксплоатации приисков…
Накануне своего отъезда с Алдана Серебровский неожиданно задал мне вопрос:
— Отчего ты такой худой? Давно был в отпуску?
Я ответил, что в отпуску не был уже два года. Серебровский сейчас же сделал распоряжение управляющему трестом Этко дать мне весной отпуск. Но я так и не собрался бы отдохнуть, ежели бы не заболел в марте 1929 года нервным расстройством. После выздоровления я уехал в Сочи.
Незаметно, как сон, промелькнули три месяца отпуска в Сочи, на Волге, в Москве. Снова дорога, на этот раз летняя. Везу с собой на Алдан своего трехлетнего сына Витима. Из Б. Невера ехали на грузовой автомашине прямо до Чульмана — так быстро продвинулось строительство тракта. По безлюдной и дикой дороге, где вчера еще пробегал только одинокий бурундук да шел упорный старатель с котомкой на спине, сейчас мчатся автомашины. Резкие автомобильные гудки напоминают далекую, только что покинутую Москву и окаймленную зеленым лесом черноморскую дорогу, по которой мы ехали из Сочи в Сухум.
На восьмой день мы дома. Незаметный за лето вырос. Мы поселяемся в новом большом доме на улице, застроенной хорошенькими двухквартирными домами для специалистов и администрации треста.
Я застал значительные перемены в составе руководителей алданских партийных и профессиональных организаций. Сменился секретарь окружного комитета партии. Новый секретарь, много лет в молодости проживший на ленских приисках и хорошо знавший золотопромышленность, произвел на меня впечатление умного, разносторонне развитого человека. Мне казалось, что работа с ним будет чрезвычайно легкой, вопросы производства всегда найдут должную поддержку в партийной организации. Жизнь, однако, сулила иное. При всех своих исключительных личных качествах, секретарь окружкома обладал весьма крупным недостатком — повышенной подозрительностью.
Первые недоразумения возникли в связи со строительством жилых домов и бараков. Чтобы не сдерживать темпов производства, подготовительные работы велись параллельно с постройкой рабочих поселков. Разрабатывался прииск— строился поселок. Запасов строительных материалов на складах не было. Лес рубился тут же на месте и сразу шел на стройку. Жилищный кризис был настолько велик, что сплошь и рядом люди въезжали в дома, в которых плотники достраивали крышу, вставляли окна. Однажды при укладке потолочных балок в одном из домов упал недостаточно закрепленный простенок между оконными пролетами и обвалилась потолочная балка. Авария, ликвидация которой заняла всего несколько часов, послужила поводом для показательного судебного процесса. Работников треста, которым инкриминировали скверное качество строительных работ, осудили на довольно значительные сроки принудительных работ — до трех лет.
Приговор взбудоражил специалистов, особенно горняков Это было тем более вредно для дела, что мы часто сознательно шли на производственный риск, без которого нельзя было спешно создавать новое производство на новом месте. Ошибки были возможны, но кто знает, не сочтет ли новый секретарь окружкома ошибки вредительством? Так оно и оказалось. Вслед за судом над строителями одного за другим привлекли к судебной ответственности или арестовали до окончания предварительного следствия ряд специалистов, механиков, смотрителей шахт.
Весной 1930 года, когда я поехал на прииск самой отдаленной Джекондинской группы, производственное совещание работников драги № 2 с участием управляющего трестом, моего заместителя и заведующего эксплоатацией драг постановило пустить драгу досрочно—15 мая. Для этого требовалась спешная выемка льда из дражного разреза. На выемке льда работала вся бригада, не исключая квалифицированных драгеров, и все же к 15 мая разрез еще не был освобожден от льда, С согласия управляющего трестом, решили пустить драгу в ночь на 16 мая. Утром шестнадцатого при черпании в мерзлом грунте драга ударилась кормой о всплывшую из разреза льдину, получила пробоину и в течение двух минут затонула... Люди едва выскочили. Машинисты не успели погасить котлов и открыть пар. С тревожным гудком драга погрузилась на дно разреза.
Сразу же после получения известий об аварии я выехал на место. Тут же совместно со специалистами треста и рабочими мы наметили план быстрого подъема драги.
Через два месяца драгу подняли и пустили в ход. Но за время, прошедшее после аварии, многие рабочие, вся администрация драги и руководители треста, включая и главного инженера, были привлечены к ответственности за аварию. У всех была отобрана подписка о невыезде. Это, естественно, отразилось на настроении.
На второй день после вторичного пуска драги ковш черпанной цепи зацепил металлическую планку в разрезе понтона и вырвал ее вместе с болтом. В образовавшийся пролом хлынула вода. И без того напуганная приближающимся судом, бригада драги растерялась Драга накренилась на бок. Водоотливные средства едва успевали убирать воду. Я сломя голову помчался на драгу. Рабочая команда, свободная от вахты, сидела на берегу разреза. Вахтенная бригада собралась на носу понтона и ничего не делала. Заведующий драгой тоже растерялся. А в понтоне накапливалась вода. Надо было победить безразличие и заставить людей лезть в ледяную воду, чтобы наложить пластырь на пробоину. Не раздеваясь, сняв только сапоги, я спрыгнул в разрез, нырнул под понтон и, прощупав расположение пробоины и планки, вынырнул и попросил дать мне доску, обтянутую кошмой. Нырнул еще раз с доской. Приложил ее к отверстию. Напором воды доску прижало к дыре, течь уменьшилась. Внутри драги начали закладывать пробоину цементом.
Мой прыжок в воду вызвал много охотников заделать пробоину. Люди пришли в себя от замешательства, полезли в воду, обрубили планку, вытащили ее и после цементировки понтона изнутри сняли доску. К этому времени я успел натереться спиртом.
Пробоину заделали, но отношения между управляющим трестом Этко и секретарем окружного комитета обострялись все больше. Разногласия между хозяйственным и партийным руководством разбирались в Якутском областном комитете партии, но и авторитет обкома не создал мира на производстве.
Алдан был самым крупным индустриальным районом Якутской автономной республики. Алданцам довольно часто приходилось ездить в Якутск. Съезд ли советов, партийная ли конференция, обсуждение контрольных цифр — все это требовало поездки а Якутск. Путь был нелегкий и дальний — семьсот километров.
В ноябре 1929 года этот путь пришлось совершить и мне. Поехали вдвоем с Этко. В свое время об Этко говорили, как о хозяйственнике, «подающем надежды». Увы, надежды мало оправдались. Этко действовал методами штурмовщины, администрирования, приказами, не умел работать ровно и планомерно. Коммунисту-хозяйственнику надлежало, как того требовал товарищ Сталин, овладеть техникой, вникать в сущность дела, изучать его. Этко дела глубоко не изучал. Работа перерастала человека. Впоследствии стало ясно, что он слаб для руководства крупным трестом. Но это — впоследствии.
Почти месяц я пробыл в Якутске, работая в Госплане.
Место ссылок в царской России, Якутия после революции начала созидать и развивать народное хозяйство, культуру. Богатейшее золото на Алдане, каменный уголь у Лены, платина по Вилюю, Северный морской путь — все это сулит исключительное будущее далекой северной республике. И в этих проблемах не последнее место занимает проблема развития Алдана, над которой я работал в Госплане Якутии.
В обратный путь отправляемся почтой до Незаметного. Я — за почтальона на последних санях. От села Синьскогс дорога с Лены сворачивает в тайгу и четыреста километров идет безлюдными местами, где можно встретить разве только бродячего охотника-тунгуса.
В Синьском нас предупредили, что ямщик одного из станков Осипов проиграл в карты сено и, возможно, не захочет везти почту. Опасения оправдались.
Выехали на одной лошади и пяти парах оленей. Нас было пять человек: два ямщика-якута, — из них один комсомолец, — и три пассажира: управляющий трестом, я и возвращающийся с Колымы радист. Не доезжая станка Осипова, мы встретили его со всеми оленями и скарбом, уходящим в сторону Синьского. Попытались вернуть его обратно—не вышло: притворяется ничего не понимающим. Бились, бились — бросили, забрав у него железную печь, топор, котелок и ведро, так как в покинутом им зимовье ничего не осталось. Поехали дальше, намереваясь погнать наших оленей и лошадь до следующего станка. Старший ямщик возражает. Но другого выхода нет. Не гибнуть же в тайге!
Рано утром старший ямщик пошел собирать оленей. Он вернулся ни с чем: олени разбежались.
Одну пару оленей привел комсомолец. В это время старший ямщик пошел поить лошадь. Он легонько свистнул. Конь, задрав хвост, рванул и понесся вперед. Якут с криком побежал за ним, как будто догонять. Но чем больше он кричал, тем быстрее бежала лошадь. Скоро оба скрылись в тайге.
Мы остались вчетвером с одной парой оленей, заброшенные среди леса, почти без продовольствия. До ближайшего станка — сорок пять километров.
Что делать? Решили приладить к нартам, груженным почтой, лямки и тащить их на себе. За ночь выпал снег. Вытащили нарты—не идут. Пытаемся связаться по телеграфу с Незамет ным. Радист изготовил из перочинного ножа ключ, нашел проволоку, включился в телеграфный провод Якутск-Незаметный и много часов подряд без устали передавал телеграмму:
— Бро-ше-ны ям-щи-ком. Спа-си-те.
Не помогло. Вот уже утро, а помощь не пришла. Радист не отходит от провода и продолжает терпеливо посылать призывы о помощи:
— Эт-ко бро-шен ям-щи-ком. Спа-си-те.
Наступил вечер. Почти все продукты съедены. Впереди голодная и холодная смерть.
Вместе с ямщиком-комсомолъцем Этко отправляется на паре оленей до следующего станка за помощью, Олени с трудом шли по засыпанной снегом дороге. На двадцатом километре один олень пристал. Его оставили отдыхать в тайге. Поехали на одном. Впереди оленя шел ямщик, за нартами тяжело плелся пассажир. Рано утром, измученные, они добрались до зимовья. Подняли переполох. Быстро собрали шесть пар лучших оленей, имолодой тунгус помчался нам на выручку.
Холодно в зимовье. Лежим, завернувшись в дохи. Не хочется просыпаться. Все громче слышен колокольчик. Сон это или не сон? Крик: «Тохто!». дверь открывается и с клубом морозного воздуха в зимовье вбегает молодой тунгус в оленьей куртке мехом наружу и красивых унтах.
— Собирайтесь, товарищи! Едем!
Полчаса на подогревание чая — и мы прощаемся с зимовьем Быстро мчат олени, на спусках они развивают бешеную скорость Снежная пыль вихрит из-под копыт На станке нас ждет заранее приготовленный сытный обед. Хозяин гостеприимен, как все тунгусы.
Дальше путь до Незаметного идет без задержки.
Итак, отношения между хозяйственным и партийным руководством обострялись.
Дело закончилось тем. что меня, моего заместителя и некоторых других ответственных работников треста и управлений обвинили во вредительстве по 58 статье.
Из-за нас, гласило обвинение, утонула драга. Нам предъявили гражданский иск на 471 000 рублей. Наложили арест на имущество Его у меня почти не было. С октября 1930 по март 1931 года я продолжал оставаться главным инженером, но у меня взяли подписку о невыезде, ограничили заработную плату ста двадцатью пятью рублями в месяц—прожиточный минимум одинокого человека.
Все эти перегибы настолько болезненно начали сказываться на производстве, что трест стал перед полным развалом. В марте 1931 гола на прииски прибыла правительственная комиссия во главе с нынешним членом Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Васильевым. В первые дни Васильев знакомился со всем касающимся событий на Алдане, а затем начал вызывать к себе отдельных лиц. Вызвал и меня.
Прихожу. Вижу, на столе лежит объемистый том объяснительной записки к программе 1931 гола, которая была напечатана и переплетена в двух томах и была по существу технической книгой о методах разведки и разработки золотых россыпей различными способами. Васильев, очевидно, читал первую книгу, когда я вошел.
— Это вы писали?— спросил он меня.
— Я.
— Лично писали?
— Лично.
— Большая работа! Сколько времени ее писали?
— Месяца три.
— А когда именно?
— Начал в октябре.
— Это время совпадает со временем обвинения вас во вредительстве?
— Вполне.
— В это же время был наложен арест на ваш заработок?
— Да.
— Каким же образом вы ее писали?
— Я не понял вопроса.
— С каким настроением вы писали такую серьезную книгу? — переспросил председатель комиссии.
Что ж делать, работать ведь надо было! Меня же не сняли и никем не заменили. Смущало не то, что фактически лишили заработка. Жена достаточно зарабатывала, чтобы прожить всей семьей. Смущало другое. Обвинение во вредительстве было известно каждому из моих подчиненных, потому что о нем упоминалось в местной печати. Отдавая какое нибудь распоряжение, я не был уверен, что мне не скажут: «Пойди ты к чорту, вредитель!»
Приезд комиссии оздоровил обстановку. В районе сменили руководство партийной и профсоюзной организаций, прокуратуры, судебных органов. С большинства работников треста судимость была снята.
Вскоре на Алдан вторично приехал А. П. Серебровский. Его интересовали крупные стройки Алдана — Селигдарскзя электрическая станция, драги и подземные работы. Приехал он. когда его на приисках совсем не ждали. Кроме меня никого на Незаметном из трестовского начальства не было. — Здорово ты, Виктор, почернел,—сказал он, когда вошел в отведенную ему квартиру и собирался умыться с дороги
— Почернеешь, — ответил я. — Знаете, на мне ведь висела пятьдесят восьмая статья.
— А теперь ведь все ликвидировано?
— Все.
Вечером Серебровский созвал совещание. Мы доложили о работе, главным образом, о строительстве Слушая нас, Серебровский тут же написал телеграммы о поставке на Алдан задерживаемого в пути или еще не изготовленного заводами оборудования для электростанции, драг шахтных механизмов. Поздно вечером мы поехали на строительство Селигдарской станции. Здесь состоялся летучий митинг рабочих Серебровский выслушал короткий доклад прораба и замечания рабочих строительства, которыми он особенно заинтересовался. Серебровский подробно расспрашивал как мы строили станцию. Такого рода строительство производилось здесь впервые, и у местных общественных организаций все время возникали опасения, сможет ли станция стоять на вечной мерзлоте. В прошлый свой приезд на Алдан Серебровский рассказал мне об опыте американцев, строящих еще более солидные здания на вечной мерзлоте. Серебровский рекомендовал не бояться риска и использовать опыт строительства якутских крупных зданий, построенных на вечной мерзлоте сотню-другую лет назад и по сию пору стоящих довольно прочно.
Указания Серебровского мы приняли во внимание. Но строить было нелегко, особенно из-за того, что проекты и расчеты поступали к нам из центра весьма несвоевременно. Строительство уже велось полным ходом, а законченного проекта электрической станции еще не было. Ждать было нельзя, так как приближалось к концу строительство электрических драг.
Серебровский остался недоволен темпами строительства. На митинге он сказал, что мы проявили слишком мало настойчивости в устранении всякого рода помех. После речи Серебровского собрание рабочего коллектива Селигдарской электростанции решило работать так, чтобы закончить станцию к осени, к моменту пуска драг.
Серебровский пробыл на Алдане всего три дня. Он почти не спал, днем и ночью объезжал прииски. Мы поражались его нечеловеческой трудоспособности, тем более, что он был серьезно болен и находился на строгой диэте. Даже нам, более молодым, было трудно за ним угнаться. Казалось, что он лишен человеческой слабости и никогда не устает. К концу третьего дня мы начали сдавать, а Серебровский, соснув часа три перед отъездом, как ни в чем не бывало, уехал в семисоткилометровый путь.
На прииск Серебровский оба раза приезжал без сопровождающих. Блокнот, маленький чемоданчик — вот и все, что он привозил с собой. Крайне нетребовательный, когда это касалось личных удобств, Серебровский выходил из себя, если узнавал, что его распоряжения не выполняются или выполняются плохо, медленно. В эти минуты он мог изругать человека, но никто на него не сердился, так как видели, что он прав.
Запомнился большой нагоняй, полученный заместителем управляющего трестом за небрежное исполнение одного из требований Серебровского. Приехав на прииски и узнав о наших нуждах, Серебровский попросил меня и заместителя управляющего трестом составить две телеграммы—наркому финансов о финансировании Алдана и председателю ВСНХ о срочном выделении Алдану оборудования. Телеграммы он просил приготовить к вечеру, когда было назначено совещание всех работников треста.
— Ну, давайте телеграмму, — говорит Серебровский
заместителю управляющего трестом, когда все уселись.
Тот подает ему бумажки, исписанные крайне неразборчивым почерком. Серебровский поворачивает к нему лицо и повторяет с лаской, предвещающей бурю:
Я просил телеграмму, а не эти клочечки. Алданец краснеет и тихо отвечает:
Это же телеграмма...
— Какая же это телеграмма? Это не телеграмма, а клочки бумажек, годные для известного места. На что это похоже! — обращается Серебровский к управляющему трестом. — У вас в аппарате нет никакой дисциплины. Я просил телеграмму, а мне суют чорт знает что! С таким аппаратом трудно наладить работу. Дайте-ка мне бумаги, я сейчас сам напишу телеграмму, если вы этого не в состоянии сделать.
Как назло под рукой не оказалось листка чистой бумаги.
— Замечательно! — воскликнул Серебровский. — Совсем хорошо!
Растерявшийся секретарь забыл, где у него лежит бумага. Прошло несколько томительных минут. Наконец бумага найдена.
— Ну, говорите, что вам нужно, — и Серебровский начинает писать телеграмму. — Одна готова. Теперь придется писать другую. У тебя наверно тоже ничего нет? — обращается Серебровский ко мне.
Я дал перепечатанный на машинке текст телеграммы. Настроение Серебровского улучшилось. Гроза прошла.
Во время этого же, кажется, совещания Серебровский вызвал ведающего составлением отчета помощника главного бухгалтера Алданзолота Клюева, молодого человека, лет двадцати восьми. Как только он вошел, Серебровский, раздраженно указывая на отчет, спросил:
Что это у вас за безобразия в отчете? Видели?
Что ж поделаешь, — возразил Клюев.—Сам знаю. Но такая уж глупая инструкция написана в Союззолоте.
Как глупая! Что ж это, молодой человек, вы считаете, что А. И. Круглов, наш главный бухгалтер — дурак?! Тридцать лет работает главным бухгалтером и — дурак! Я, по-вашему, дураков держу?
Я не сказал, что вы дураков держите. Тем более, что инструкцию подписал не Круглов. Насколько мне известно, он ее даже не видел.
Кто же подписал?
Клюев назвал фамилию финансового работника Союз-золота.
— Покажите.
Клюев показал инструкцию. Серебровский тотчас придвинул к себе чернильницу и написал в Москву телеграмму, предлагающую Круглову немедленно отстранить работника, разославшего вредную инструкцию.
Конец 1931 года на Алдане проходил под знаком пуска Селигдарской электростанции и третьей и четвертой электрических драг. Инженеры и рабочие сдержали слово: электрическую станцию выстроили к моменту пуска драг.
Станция была пущена с массой мелких недоделок, и это сразу сказалось: работала она с перебоями—то есть электричество, то нет его. Мы расплачивались за недоделки, за неграмотный монтаж локомобилей.
Много времени ушло на устранение недоделок, на регулирование работы станции, освоение драг. Не только работники электростанции и драг были заняты этим делом. Оно отнимало почти все время и силы и у нас, руководителей треста. Да и весь район чутко прислушивался к тому, что делается на станции — электрическом сердце Алдана.
В конце августа пошли затяжные дожди, необычные в это время года. Начало затапливать новый прииск — Средне-Серебровский. Водоотливных средств нехватало. Мне пришлось выехать на прииск. Четыре с лишним дня велись спасательные работы. Три дня непрерывней работы в воде и бессонные ночи подорвали здоровье, я заболел манчжурским тифом. Меня отвезли в больницу. Двадцать три дня я был без сознания. Единственное, что сохранилось в угасающей памяти — клепка понтона пятой драги, которая собиралась перед окнами больницы. Пневматические молотки трещали, надоедливо шумела непрерывно бьющая в забой под напором семи атмосфер вода гидравлики.
Очнулся я, когда понтон драги уже был склепан. Врачи мне потом рассказывали, что больным я оказался крайне неспокойным. Часто вскакивал с постели, ругался, требовал, чтобы мне дали одежду, потому что вечером назначен мой доклад у Сталина об откачке воды из шахт. Санитарок пришлось заменить дюжими санитарами. Меня положили в отдельную палату.
Старший врач предупредил управляющего трестом, что надежд на спасение больного нет никаких. По Незаметному поползли слухи: «Умер Селиховкин»...
Меж тем, против всяких ожиданий, организм победил: я ожил. А на приисках уже знали... о моей смерти. Честно признаться, мне было очень приятно узнать, что слух о моей смерти принес многим огорчение.
Меня выписали из больницы, но запретили заниматься чем бы то ни было.
Вечером 16 сентября я на автомобиле выехал из Незаметного. Путешествие до Б. Невера заняло двадцать часов. А года три-четыре назад оно отнимало тридцать дней. Двадцать часов или тридцать дней — вот как двинулся вперед наш советский Алдан! В короткие пять лет Алдан прошел путь, который раньше потребовал бы много десятилетий. От примитивного быта, нетронутой тайги, архаических форм производства и хаотического хозяйства — к культурному, обжитому району, стремительно осваивающему высокую технику производства. Там, где еще недавно были лишь допотопные ямы старателей, работают мощные электрические драги, их питает большая электрическая станция. Экскаваторы переворачивают миллионы кубометров породы. Отличные дороги связали прииски с сибирской магистралью. Сотни автомобилей бегут к магистрали и обратно, перевозя людей и грузы. Все более благоустраиваемые поселки, светлые клубы, библиотеки, кинотеатры, по-человечески оборудованные дома, школы, лечебные заведения — все это выросло на пустом месте, все это дело наших советских рук. Как можно не любить труд, совершающий такие чудеса, как можно не любить советскую страну, свою родину, партию, двигающую вперед наши силы, энергию, разум!
Глава пятнадцатая
Гордо держит Алдан знамя крупнейшего предприятия золотой промышленности — по добыче первого в Союзе Но уже рядом с ним, из концессионного развала поднимает голову поверженный гигант золотой индустрии нашей родины — золотоносный район на Лене. 1 января 1932 года постановлением правительства на приисках бывшей концессии организуется государственный трест Лензолото. И сразу начинается борьба — соревнование Лены и Алдана на первенство.
Я снова на Лене.
15 февраля 1932 года меня назначили главным инженером вновь организованного треста Лензолото. Новый трест должен был в кратчайший срок поставить на ноги ленские прииски. На Алдане я слышал о тех разрушениях, которые причинила концессия району. Я знал, что к концу хозяйничанья концессионеров добыча золота катастрофически упала. И все же я не представлял себе всей глубины развала, который буквально ошеломил меня, когда яприехал на прииски.
Распалили разрушили нашу Лену концессионеры. Все нужно создавать заново. Я, столько сил и крови вложивший и создание Алдана, сразу становлюсь истым ленцем и тяжело воспринимаю отставание Лены. Вот она, сила социалистического соревнования! Во что бы то ни стало обогнать Алдан, вывести Лену на первое место в Союзе!
В Иркутск я попал 18 марта. Думал перелететь в Бодайбо на самолете. Но из-за ранней весны самолеты раньше обычного прекратили рейсы. В Иркутске успел побывать на всесоюзном совещании директоров предприятий золотой промышленности. Совещание особенно много занималось вопросами разведки и механизации предприятий. Разведки повсюду велись неважно, а главное, медленно. Предприятия не могли правильно планировать производство, так как не имели достаточно детальных сведений о разведанных запасах.
Вместе с группой приглашенных на Лену новых специалистов мы выехали из Иркутска в первых числах апреля. Снега в степи уже не было. Ехали на колесах. За Качугом пробираться можно только по реке, на санях. Но ранняя весна сделала свое: по Лене поверх льда шла вода и не верилось, что мы можем доехать до Бодайбо. В Жигалово ямщики отказались нас везти: во льду появились проталины и полыньи. Но не ждать же два месяца пароходного сообщения! Заплатили ямщикам втридорога и уговорили ехать.
Вода над льдом стояла уже довольно высоко. Она заливала сани, поэтому на них устроили метровые подставки, в форме полатей, на которые сложили вещи и сели пассажиры. Лошади осторожно спустились в воду. Тридцать километров до первого станка мы ехали, вернее, брели по льду, покрытому почти метровым слоем воды, рискуя попасть в полынью или трещину. Но передовой ямщик хорошо смотрел дорогу, и мы доехали благополучно до села Усть-Илга. Крестьяне обрадовали нас сообщением, что вчера почта поехала по сухому льду. Но за день дорога испортилась. Выехав из Усть-Илги, мы снова попали в сплошную воду. Решили ехать безостановочно. На второй день сделали семьдесят километров.
Около села Туруки издавна существуют кустарные солеварни, выпаривающие соль из бьющего на берегу ключа. У Турук Лена была закрыта водой. Возникло опасение, что разъеденный слоем соленой воды лед опасен для проезда. Но вот по ту сторону села показались сани. Мы решили подождать, пока они проедут. Вдруг люди и сани, не так уже далеко от нас, исчезли под водой. Через секунду на поверхности льда появилась голова лошади, затем вылезли люди.
Мы побежали на помощь потерпевшим аварию. С трудом вытащили лошадь. Сани ушли под лед когда мы, спасая лошадь, обрубили постромки. Я уже начал надевать скинутый полушубок, как почувствовал, что проваливаюсь. Мгновение — и я по горло в воде. Я инстинктивно выбросил руки в стороны. Это помогало держаться на поверхности. Но как только я пытался схватить лед, чтобы выбраться из воды, он обламывался. Спасло меня присутствие духа товарищей. Один из них лежа подполз ко мне. протянул руки. Другой тащил моего спасителя за ноги. Этого в свою очередь тащили остальные. Волоком по льду меня в азарте протащили несколько лишних шагов. Сухой одежды у нас в запасе не было. Пришлось тридцать километров — до следующего станка — проехать с «холодным компрессом» под полушубком.
28 апреля поздно вечером подъехали к Бодайбо- Лошади все время встревоженно фыркали, косились по сторонам и летели во-всю. Перед самым Бодайбо в темноте сани перевернулись. Несколько десятков метров лошади тащили нас в воде под опрокинутыми санями. Это было последней неприятностью. Мы успели во-время. Через два дня начался ледоход.
Когда мы подъезжали к Бодайбо, меня поразило, что почти весь город погружен во мрак. Я помнил Бодайбо залитым морем света.
Грустное впечатление производил город. Только раз в сутки утром тихо уходил поезд в тайгу. На пристани не было ни лесу, ни дров. Мне показалось, что и домов в городе стало меньше. Так оно в действительности и было. Во время хозяйничанья концессии много домов ушло на дрова.
Еще более безрадостную картину я увидел на приисках. Сначала я поехал на хорошо знакомое мне по прежним временам Ленинское приисковое управление. Уцелел поселок на Чанчике. На Александровском в свое время было десять двухэтажных домов — их не стало. Темная и пустая стояла центральная Липаевская больница, когда-то самая лучшая в районе.
Наиболее печальное зрелище представляло Артемовское приисковое управление — когда-то центр добычи ленского золота. Концессионеры выработали все подготовленные запасы, а о новых не позаботились.
Однажды мне принесли солидных размеров пачку буровых журналов. Люди, доставившие мне журналы, видимо, не представляли себе всей ценности содержащихся в них записей. Увы, большая часть их по краям обгорела, некоторые погибли совсем. А ведь они говорили о разведках по дражным площадям! Так хранились на приисках ценнейшие документы-
В шахтах и рабочих бараках я почти не встретил знакомых. Народ все был свежий. Как-то стслкнулся с рабочим Шестаковым. Я его помнил как неисправимого копача, систематически попадавшегося в хищении золота и неоднократно судившегося за это.
— Опять в шахте работаете, товарищ Шестаков? — спросил я.
— Нет, давно это дело бросил.
— Где же вы теперь?
— На разведке.
— Вот как! Кем же — вахтовым или бурщиком?
— Я районный начальник разведки, — важно ответил Шестаков,
Сразу стало ясно, как скверно укомплектован штат приисковых специалистов — и это на таком ответственном участке, как разведка! Надо ли было удивляться тому, что разведки в те годы оказывались совершенно неудовлетворительными? Новых открытий почти не было.
Инженеров на Лене осталось очень мало — их можно было счесть по пальцам одной руки. Администраторы приисковых управлений были работниками весьма посредственными, чтоб не сказать слабыми. Крепкие работники уходили из концессии — кто на Алдан, кто в другой советский золотопромышленный район.
С такими кадрами, какие я застал на Лене, конечно, немыслимо было воссоздать прииски Людей, людей! Используя знакомство в инженерном мире, нам удалось привлечь на Лену несколько хороших советских специалистов. Кроме них на приисках стали работать некоторые инженеры, осужденные за вредительство; раскаявшись в содеянном против родины, они обещали честным и добросовестным трудом загладить свою вину.
К концу 1932 года на приисках удалось уже создать инженерный костяк. На Лену вернулись главный инженер Ленинского управления практик Сорокин, горный инженер Крапивин, Рыбаков, Пичугин, Нейфельд. В довольно короткий срок нам удалось назначить главных инженеров во все приисковые управления треста. Больше того: мы обеспечили многие шахты квалифицированными начальниками.
Хорошим начальников шахты оказался Нестор Степанович Онучин. бывший, забойщик и бригадир, первоклассный горняк.
Другой старый забойщик — Василий Александрович Шляпников тоже скоро освоился с ролью начальника шахты и прекрасно вел самую сложную по условиям залегания и разработки шахту № 12.
Много еще других заведующих шахтами дала нам горняцкая масса. Всю свою жизнь они работали в районе, отлично знали десятки шахт, любили Лену и готовы были делать все, чтобы восстановить ленские прииски и создать из Лены лучший советский золотодобывающий район.
Плохо было в то время с рабочими кадрами. Концессия ориентировалась на старателей. Большинство кадровых горняков покинуло поэтому район. В 1932 году приисковые рабочие состояли, глазным образом, из новичков. Их надо было учить, организовать, воспитать, надо было преодолеть мелкобуржуазные, кулацкие настроения. Большую роль в этом сыграли все те же кадровые ленцы, в том числе и участники событий 1912 года. Старые рабочие хорошо помнили каторгу, изуверский режим, царивший до революции на приисках. Старики оказались тем пролетарским революционным ядром, вокруг которого группировались и формировались кадры молодых рабочих. Ударные бригады молодежи, комсомольские шахты, социалистическое соревнование, неутомимая учеба — все это плоды деятельности старых горняков. В 1932 году этого еще не было. Слаба была партийная организация, совсем не давал чувствовать себя профсоюз. Лену действительно приходилось воссоздавать заново.
В июне 1932 года на прииск прибыл управляющий Востокзолотом А. И. Яковлев. Он объехал Ближнюю Тайгу, побывал в шахтах, ознакомился с учетом промышленных запасов золота в районе, который мы успели наладить. Яковлев согласился с нами, что на Лене надо создать большое энергетическое хозяйство. Для работы мощных электрических драг имелись достаточно богатые и глубокие полигоны. Электрическая энергия нам нужна была не только для драг, но и для работы в глубоких и чрезвычайно водоносных шахтах.
К приезду Яковлева у нас уже были систематизированы материалы разведок на золото. Стало ясно, насколько велики и эффективны по содержанию запасы золота, добываемого так называемым «мускульным» трудом, который мы собирались механизировать с помощью электричества. Материалы разведок окончательно разоблачили беспочвенность слухов, распространившихся в период, предшествовавший сдаче приисков в концессию — будто на Лене истощены «мускульные» запасы золота.
Через месяц на Лену прилетел А. П. Серебровский. Он. осмотрел все прииски, даже самый отдаленный прииск Светлый. Затем Серебровский созвал руководящих работников треста и его предприятий.
— Скажите, что нужно Лене, чтобы она расцвела? Каковы ее перспективы? Что мешает Лене сейчас работать? Чем я могу вам помочь, чтобы Лена в кратчайший срок могла дать столько, сколько можно требовать по ее естественным богатствам?
Совещание длилось долго. Выступило много народу. В заключение Серебровский с большим увлечением говорил о путях строительства Большой Советской Лены. Он говорил о внимательном отношении к людям, о соревновании, о воспитании в рабочих и инженерах чувства любви к Лене, о творческом огоньке, без которого Большой Лены не построить.
Серебровский предложил форсировать окончание изысканий и строить Энгажеминскую гидроэлектростанцию мощностью в десять тысяч лошадиных сил.
Трудно сейчас передать радостное состояние собравшихся. Каждый из нас горячо любил Лену и стыдился ее развала. Мы не обращали внимания на тогдашние бытовые неудобства, скверное и неналаженное питание. Всех объединяло одно желание — воссоздать Лену.
После совещания, которое созвал Серебровский, он беседовал с руководителями треста, партийной организации, профсоюза. Он подчеркивал слова: «Большая Лена», снова говорил о новой технике, о внимании к людям. Серебровский потребовал создания на Лене собственной сельскохозяйственной и молочной базы.
— Нельзя, — говорил он, — ориентироваться только на завоз продуктов извне.
Серебровский обещал прислать в будущем году на Лену большую партию молочного рогатого скота. Мы к этому времени должны были подготовить теплые скотные дворы.
На другой день утром Александр Павлович улетел на самолете, который ждал его в Бодайбо. Пробыл Серебровский на Лене всего три дня, но эти три дня стали отправными в восстановлении Ленской золотой промышленности.
Организационная структура Ленского треста в момент его образования была такова. Во главе треста стоял управляющий (главное управление), находившийся в городе Бодайбо и руководивший отсюда всем производством. Производственные предприятия расположены были в трех районах: Ближней, Средней и Дальней Тайге. Помимо производственных управлений, в состав треста входили управления: лесное, заготовлявшее крепежный лес и сплавлявшее его в Бодайбо по р. Витиму, управление железной дороги и геолого-разведочное. Впрочем, каждое приисковое управление на своей территории руководило разведками по своему усмотрению. На аппарате треста лежали также функции снабжения приисков материалами, механизмами и пр.
Структуру треста! никак нельзя было признать блестящей. Она часто приводила к путанице, мешала работе, нервировала людей. Например, электрическое хозяйство станции и линия электропередачи, связанные в одно целое, были почему-то разделены между приисковыми управлениями. Разведочные работы, производившиеся на территориях, связанных между собой единым комплексом геологических признаков, велись разобщенно, в каждом районе по-своему.
В скором времени мы пересмотрели структуру приисковых управлений. Прежде всего пришлось обратить внимание на нижнебодайбинскую драгу. По существу это было крупное механизированное предприятие. Мы выделили драгу в самостоятельную единицу на правах приискового управления. Затем мы объединили разведку. Руководство геолого-разведочными изысканиями и составление планов возложили на геолого-разведочное управление треста, начавшее работать целиком на хозяйственном расчете. Это сразу позволило ввести разведочные работы в рамки плановости, подчинить их определенной идее — изысканию наиболее эффективных площадей, могущих быть освоенными в кратчайший срок.
Дальне-Тайгинское управление разрабатывало площади с низким содержанием золота. Оборудование с Дальней Тайги концессионеры вывезли. Целесообразнее всего было прииски Дальней Тайги на время закрыть, а рабочие кадры оттуда перевести на более мощные производственные предприятия Артемовского и Ленинского приисковых управлений, где было мало рабочих. Так мы и сделали. Добыча золота резко увеличилась.
Конечно, нельзя считать нормальным закрытие одних — пусть менее мощных — приисков для укрепления других. Но приходилось принимать решительные меры. Страна требовала от нас не только оздоровления района, но и золота.
Сердце приисков — гидростанции. Но, за исключением одной, еле работающей, гидростанции были мертвы. Едва бился пульс производства, вот-вот готовый замереть. Восстановление гидростанций надо было начать с деривационных каналов[1].
Каналы — их общая протяженность достигает двадцати пяти километров — не чистились и почти не ремонтировались с 1926 года. Легко представить, сколько дряни туда нанесло за столько лет.
Чистить каналы! Легче сказать, чем сделать. Чтоб вода зимой не замерзала, каналы покрываются крышей. Нужно было вскрыть двадцать пять километров крыши, выбросить из каналов тысячи кубометров песка и снова их заделать. Работу эту по частям не проделать. Где же взять сразу тысячи людей? На помощь пришли сами рабочие. У них возникла мысль о субботниках. Нам оставалось только возглавить инициативу рабочих. В первый же субботник на канал станции № 5 вышли сотни рабочих Ленинского управления да поезда привезли рабочих с Артемовского и Н. Бодайбинского управления и даже из Бодайбо,
Каналы предварительно раскрыли, приготовили инструмент, подвезли продовольствие для завтрака. Работа закипела. В следующие выходные дни — новые субботники. Мы, руководители, не угнались за трудовым порывом. Было порядочно неразберихи, шума, толчеи, правда, с каждым разом меньше. И огромное дело сделано: осенью уже работали все электрические станции.
Вскоре после моего назначения на Лену, мы с Израилевым (заместитель управляющего трестом) поехали в Дальнюю Тайгу. Положение в Дальней и Средней Тайге было чрезвычайно напряженным, производственная программа не выполнялась. Начались склоки.
Направились прямо на прииск Светлый. Это — старый прииск. Работы на нем ведутся уже около двух десятков лет. К крутому склону ущелья прилеплены старые полусгнившие бараки, подпертые со стороны реки толстыми бревнами. Высокие скалы ущелья все время бросают на прииск тень, солнца почти не видно. Светлым прииск назван иронически.
Как только мы приехали на прииск, вечером, состоялось собрание рабочих и специалистов. Так как электрическая станция в этот вечер бездействовала, а керосина в Светлом не было, в клубе горела одна свеча, мерцавшая на столе президиума.
В темноте мы слушали речи рабочих, такие же безнадежные и унылые, как и вся обстановка клуба. Единственная шахта на прииске затоплена. Недавно построенная электрическая станция работает из рук вон плохо, локомобили постоянно выходят из строя, энергии нехватает, рабочие бараки не освещаются. Рабочие говорили, что они уже давно бьются над шахтой, но без толка. Хозяйственники и инженеры обещали: «Вот выбьем шахты и будет большое золото». Шахту выбили, а ее затопило. «Стране,— говорили рабочие, — нужно золото, мы это знаем, золото дадим, но пришлите других инженеров, чтобы можно было работать».
Каждая речь показывала, что люди изверились в руководителях прииска. Рабочие горячо и взволнованно говорили, что Светлый очень богат золотом, но главный инженер оказался вредителем, до последнего времени играл на-руку концессии, развалившей Лену.
Положение на прииске превзошло самые худшие наши предположения. Надо было начинать с элементарного — с организации управления, подбора нового коллектива инженерных работников. И самое главное — в короткий срок создать у рабочих убеждение, что труд их не бесполезен, что они добудут золото.
Мы внимательно выслушали всех просивших слова Я ответил рабочим, что цель нашего приезда — узнать, что же делается на Светлом, и сделать все для оздоровления обстановки В три-четыре дня мы постараемся хорошенько изучить хозяйство прииска и после этого еще раз созовем людей.
Через несколько дней состоялось заключительное собрание рабочих и инженерно-технических работников приисков. Я изложил свою точку зрения на то, каким путем следует осваивать сложную и глубокую золотую россыпь в Светлом, Я сказал, что вынужден отменить весь прежний план освоения прииска, как чрезвычайно дорогой, громоздкий и не могущий дать быстрого эффекта. Кадровые горняки, которых на Светлом было много, одобрили мои предложения, но откровенно говорили о своих опасениях, план слишком смел, справятся ли с ним на Светлом при существующей плохой организации хозяйства? Я назвал фамилии лиц, которых мы с Израилевым решили перевести в Светлый, чтобы поставить вспомогательное хозяйство на должную высоту.
Через четыре месяца я снова попал на Светлый. Прибыв туда, я невольно посмотрел в сторону клуба. Темно! Электричества попрежнему нехватало.
Управление прииском и не подумало держать наготове водоотливные механизмы. Его успокоили успехи проходки передовых выработок, начатых после нашего пребывания на Светлом. Когда в передовом забое прорвалась вода, резервные насосы оказались в неисправности и шахту затопило.
Полный развал на прииске не мешал, однако, управлению увлекаться химерами. Прожектерские планы отвлекли внимание рабочих, партийной организации и самого управления от насущных нужд и потребностей прииска. Управляющему прииском Воронину пришла в голову бредовая идея — строить грандиозный мост через р. Жую. И вот уже начато глубокое бурение на берегу. Одновременно Воронин приступает к сооружению огромного рабочего клуба на высоком песчаном холме, на краю которого должна, по его замыслу, стоять большущая статуя с факелом, свет которого будет виден подъезжающим к Светлому за десяток, по крайней мере, километров. Все силы — на мост и клуб! А шахта затоплена, электричества нет. Но управляющему не до будничных дел, — он уже увлечен новой идеей. В трехстах километрах от Светлого он сооружает интернат для двухсот детей работников Светлого.
Я увидел значительную долю своей вины во всем случившемся. Оздоровление прииска надо было начать с головы. Теперь мы исправили допущенную летом ошибку. Пришлось снять управляющего приисковым управлением, назначить на Светлый нового главного инженера.
Не так легко оказалось восстановить прииск. Только в 1933 году обновленное хозяйственное, партийное и техническое руководство освоило глубокую, очень богатую золотом россыпь, залегающую на глубине до ста тридцати метров, из которых шестьдесят занимали плывуны.
Теперь на месте развалин — нормально работающее предприятие, давшее государству уже немало золота. А сколько еще даст Светлый!
Глава шестнадцатая
События на Светлом заставили меня сильно призадуматься. Связывая воедино различные эпизоды, свидетелем которых я был, вспоминая встречи и беседы с рабочими и инженерами на многих приисках, я мог вынести за скобки то общее в обстановке, что роднит прииски всего района. Рабочие не верили многим руководителям, прежде всего инженерам. Концессия, вредительство, обнаруженное среди части инженеров — все это вызвало сложную реакцию в настроении рабочих и их отношениях к специалистам.
Иные инженеры сами давали пищу подобным настроениям. Опасаясь спецеедства, желая любой ценой установить добрые отношения с коллективом, они плелись в хвосте у массы, ежеминутно меняли свои распоряжения, пытались подыграться под настроение самых отсталых рабочих Вихляние вместо твердой линии, беспринципность в работе, отступление перед демагогией никак не способствовали укреплению авторитета специалистов. Рабочие хорошо различали фальшь, чувствовали дрожь в руках тех, кому вручен был руль производства.
На меня в свое время (в 1929 г.) произвело большое впечатление то место в резолюции ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) о подготовке инженеров, где дается определение советского инженера. Кадры нового типа технических руководителей и организаторов строящегося социалистического хозяйства, — говорилось в резолюции, — должны обладать достаточно глубокими специально-техническими и экономическими знаниями, широким общественно-политическим кругозором и качествами необходимыми для организаторов производственной активности широких масс трудящихся.
Во все годы инженерной деятельности я старался воспитывать в себе и своих товарищах качества, которые хочет видеть в нас партия. И теперь на Лене я говорил себе и товарищам: надо быть глубоко-принципиальным в работе, надо твердо и уверенно проводить намеченную техническую политику, надо сделать ее понятной и близкой рабочим и никогда не отступать перед трудностями; тогда ты будешь настоящим руководителем, тогда коллектив пойдет за тобой и увидит, что во главе производства стоят новые люди, свои, советские люди.
На практике мне не раз приходилось претворять эти высказывания в дело. На Ленинском управлении казалась весьма сложной подготовка к эксплоатации трех шахт — одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой. Нужно было создать естественный водосток, пройти несколько сот погонных метров в борту россыпи. Администрация прииска совместно с несколькими кадровыми рабочими составила графики проходки шахт. Я эти графики проверил, исправил и утвердил.
Работа началась. Люди сразу же столкнулись с трудностями. Но я не допускал никаких отступлений и на полуслове обрывал тех, кто начинал сомневаться—целесообразна ли проходка шахт, не лучше ли бросить. Пришлось выдержать атаку местных и общественных организаций, спасовавших было перед трудностями. Им казалось, что конца не будет работе, что золота впереди нет и вся затея напрасна. Появились рецидивы спецеедства. Тогда я обратился к авторитету районного и даже краевого комитета партии.
Проходчики добрались до золота, шахты обрели наконец вид нормального предприятия и отношения сразу изменились. Коллектив поверил специалистам, управлению, тресту.
Ленинское приисковое управление после того, как на шахтах одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой начали добывать золото, быстро шагнуло вперед. В 1933 году Ленинские прииски завоевали первое место не только в районе, но и во всей союзной золотопромышленности: они получили переходящее знамя ЦК союза рабочих цветной и золотоплатиновой промышленности.
В 1933 году во главе Ленинского управления стал М. М. Лукьянов — дальневосточный партизан, большевик. Прииски до него работали плохо, аппарат был развален, добыча падала. Жесткий администратор, хороший хозяйственник, крепкий партиец, Лукьянов завоевал авторитет у рабочих, специалистов и партийной организации. Приятно было видеть, с какой принципиальностью и трезвостью он решал технические и хозяйственные вопросы. Он не любил шума итолчеи. Каждый знал свое место, каждый знал за что он отвечает.
Лукьянов дал начальникам цехов полную самостоятельность. Но это не значит, что Лукьянов переложил ответственность на своих подчиненных. Лукьянова можно видеть и в конторе, и на разведке, и в мастерских, в школе, в больнице, в шахте. Свою манеру работать — манеру настоящего большевистского хозяйствования — Лукьянов сумел привить многим работникам управления.
Лукьянов на первый план выдвинул заботу о людях. Он использовал каждую мелочь для улучшения быта рабочих и специалистов. При его содействии рабочий клуб стал уютным уголком отдыха и культуры сотен ударников-горняков. Управление установило радиовещательную станцию, В каждом рабочем доме, в каждой раскомандировке появились громкоговорители, и Ленинские прииски получили в премию звуковое кино. Прииск прорезала прекрасная дорога. У бараков исчезла грязь, появились усыпанные мелким эфелем площади.
Одинаковые возможности для работы, но какая разница в постановке дела у Лукьянова и у его соседей — у артемовцев и нижне-бодайбинцев!
Пример Ленинского и Светлого приисков убедительно показа, как много можно добиться путем твердого единоначалия, хорошей подготовки к наступлению и организации вокруг него всех живых сил коллектива. Победа придала и мне бодрости. Во мне все пело и радовалось.
Следующими участками наступления были прииски Артемовского управления. Прежние руководители управления держали курс на восстановление и разработку очень бедного прииска Весеннего, полагая, что там много золота. Мне стоило большого труда переубедить людей. Нарушая элементарные правила организации работы, я вынужден был вмешиваться в дела приискового управления, лично на месте отменять распоряжения местной администрации о порядке эксплоатации шахт, о расстановке рабочих.
На Артемовском управлении я обратил внимание на шахты №№ 7 и 8. На этих шахтах в последние годы «потеряли россыпи» и с тех пор их стали считать окончательно обедневшими. Внимательно ознакомившись с материалами разведки, я убедился, что на Каменистом — одном из приисков Артемовского управления — много золота, что по потенциальной мощности этот прииск, быть может, самый богатый в районе. Но на Каменистом нехватало рабочих, и я распорядился о переброске рабочих с Весеннего.
Каменистый отличался большой водоносностью. Сильный приток воды, мощные толщи плывунов требовали специальной системы разработки, высококвалифицированных горняков. Мне много помогли старые друзья, бывшие забойщики: Шляпников, Онучин и др. Главный инженер Артемовского управления Котельников, человек исключительной дисциплинированности и воли, всегда поддерживал меня, когда приходилось давать отпор пессимистическим настроениям, возникавшим не только у части рабочих, но и у инженерно-технических работников и у партийной организации.
Сколько раз мне приходилось выступать с речами о перспективах разработки Каменистого и с призывом во что бы то ни стало итти вперед и добраться до богатого золота! Меня ругали, подозревали во всяких гадостях. Нападки по моему адресу продолжались даже тогда, когда подготовительные работы уже начали давать эффект, штрек нащупал богатую россыпь, подтвердилась правильность взятой технической линии.
В 1934 году на слете ударников, на котором присутствовал секретарь краевого комитета партии Разумов, рабочий Москвитиноз выступал с речью, в которой спрашивал, до каких пор инженеры и главный инженер треста будут обманывать народ.
— Нет ли тут вредительства? — спросил Москвитинов.— Не зря ли мы прошли сотню метров штрека в бедроке[1] и сотни метров штрека по россыпи? Мы, товарищи, затратили сотни тысяч рублей.
Я попросил слова и дал исчерпывающие объяснения по всем волнующим собрание вопросам.
— Золото есть, — сказал я, — золото очень богатое, скорого конца ему не предвидится и не будет. За это я могу чем угодно поручиться. Успех теперь зависит от нас самих, товарищи.
Разумов, крайне популярный и уважаемый в крае, в заключительном слове назвал выступление Москвитинова ошибочным. Это выступление, говорил Разумов, продиктовано, очевидно, годами неудач; в данном случае у рабочих нет оснований для беспокойства.
Слет закончился банкетом. Я провозгласил тост за артемовцев. Москвитинов поднял бокал, признался в своей ошибке, ничтоже сумняшеся пропутешествовал по скамьям ко мне — и мы с ним крепко расцеловались.
Артемовское рудоуправление вскоре начало выходить из прорыва. Артемовцы открыли и освоили, помимо Каменистого, и другие золотоносные площади. О таком богатом золоте здесь даже и не мечтали.
Глава семнадцатая
В конце 1933 года во главе треста был поставлен Александр Ильич Ганин, давнишний работник золотопромышленности. Человек с огромным опытом работы в каменноугольной и золотой промышленности, прекрасный организатор, хороший и выдержанный коммунист, Ганин сразу внес волну оживления в нашу среду. После назначения Ганина трест с каждым месяцем стал работать лучше, без рывков. Ганин обратил большое внимание на так называемые вспомогательные предприятия. Он понял, что нельзя ставить дело на широкую ногу без налаженного и бесперебойного снабжения приисков материалами и продуктами, без налаженной работы транспорта.
На железной дороге нехватало запасных частей, паровозов было до смешного мало, — Ганин, по местной терминологии, «сел на дорогу», и вот уже транспорт обслуживает прииски почти нормально.
Плохо было с лесом, — Ганин «сел на лес», и шахты перестают испытывать нужду в крепежных и строительных материалах, поселки получают топливо.
Особенно много сделал Ганин для строительства рабочих жилищ. В районе лесозаготовок по реке Витим свободные в зимнее время плотники рубили дома по определенному стандарту — двух-трех типов. К весне дома разбирались, на плотах сплавлялись в Бодайбо, а оттуда перевозились на прииски. Таким образом к лету, когда начинался наплыв новых рабочих, приисковым управлениям оставалось лишь собирать дома при помощи тех же плотников. Этот остроумный и дешевый способ позволял строить поселки в относительно малый срок. Так выросли новые, удачно спланированные поселки на Каменистом, Весеннем и на прииске Васильевском, где после концессии не осталось почти ни одного дома.
В отличие от концессионеров и дореволюционных владетелей Лены, мы придерживались той точки зрения, что нельзя ограничиваться добычей золота лишь на особо богатых площадях. Условия советского производства требовали от нас разработки всей площади, где есть золото. И мы решили создавать новые виды механизированной добычи на бедных полигонах. Так началась в районе гидравлическая разработка золота.
После того как была заложена прочная техническая база предприятий, трест уже мог с большим основанием заглянуть в будущее. Настала пора освоения таких полигонов, от которых зависел, так сказать, завтрашний день Лены. Задачу, к решению которой мы теперь приступили, можно было бы выразить лозунгом: «Лицом к Большой Советской Лене».
Центр давал мало средств на капитальное строительство. Тем не менее и 1935 году мы восстановили старый полигон прииска Кропоткинского. Его затопили в 1919 году колчаковцы, взорвавшие плотину руслоотводной канавы; весенняя пода бурной горной речки хлынула в долину и затопила все сооружения, шахты и штреки.
В 1935 же году мы начали готовить для добычи золота огромный полигон по р. Большой Догалдын в Артемовском управлении. Но подготовить этот полигон не так просто. Надо прорубить сквозь горы тоннель длиной около двух километров и затем по россыпи и под ней провести километров с десять штреков.
Поставленные по-новому геолого-разведочные работы дали за три последних года поразительный эффект. Мы хорошо сделали, что не разбрасывались, а сосредоточили работу разведчиков в районе Артемовского и Ленинского управлений, находящихся в непосредственной близости от железной дороги. Наши разведчики нашли в Артемовском управлении широкие и богатые россыпи. В Ленинском управлении открыта огромная террасовая россыпь. Она названа именем секретаря краевого комитета партии Разумова: «Разумовская терраса». Разумовская терраса уже дала стране много «дешевого» золота-
Поиски золота не всегда столь романтичны, как это кажется непосвященному человеку. Приходилось разведывать золото не только в земле, но и в ворохе бумаг — разрозненных, несистематизированных. Концессия не оставила почти никаких следов подсчета запасов золота. Надо было переучесть и систематизировать материалы уже разведанных запасов, рыться в старых документах, сохранившихся, увы, далеко не полностью. Три года ушло на то, чтобы обработать документы о золотых запасах только Ближней и частично Средней Тайги.
Работа в Ближней Тайге обогатила наши познания и мы могли уже наметить техническую политику в разведке на золото, могли дать почти безошибочный прогноз возможного направления и наиболее вероятной золотоносности. Большую помощь оказала нам консультация академика Обручева — большого знатока Ленского района. К его голосу ленцы, в особенности мы, бывшие его ученики, прислушивались исключительно внимательно.
Из месяца в месяц, из года в год Лена стала добывать все больше золота. Ежегодный прирост добытого золота у нас достигал пятидесяти процентов — такого бурного роста не знают другие предприятия золотой промышленности Союза.
Оглянешься назад, вспомнишь, что было несколько лет назад — и сам поражаешься героическим усилиям рабочих, инженеров, партийных, хозяйственных, комсомольских работников — строителей Лены. Работа протекала в условиях жесточайшего недостатка оборудования, расхищенного и вывезенного концессионерами. Нехватало спецодежды, нехватало иногда самых необходимых продуктов. Но энтузиазм и героизм рабочего коллектива не знали преград.
В годы восстановления Лены после концессионного развала ни в одной шахте, ни в одной бригаде рабочие не одевались так, как того требуют условия работы. То нехватало подкожаников, то нет кожанов. Мало было полуболотных сапог. Наиболее распространенным видом обуви в эти годы оказался обычный красноармейский сапог.
Но не ждать же, пока завезут спецодежду! Золото нужно сейчас. И молодежная бригада Романова, бригады Карпухина и Столбова в Артемовском рудоуправлении, бригады Газитулина и Клецкого в Ленинском управлении, бригада Миндубаева и Нижнебодайбинском управлении блестяще преодолевали трудности при проходке передовых штреков по мокрой россыпи или в бедроке. Эта оценка продиктована отнюдь не голой восторженностью; бригады, о которых я говорю, и многие другие добивались производительности труда, превосходившей все известное по статистике дореволюционных лет, когда никакой нужды в спецодежде не было.
... Двадцать лет подряд — со времен Ленской забастовки — стояли затопленными шахты № 1 и № 4 Васильевского прииска. Их решили восстановить. Заказали насосы, но они должны были притти летом 1933 года. Пока что начали выкачивать воду при помощи того старья, которое имелось на Лене. На водоотлив послали из соседнего Ленинского управления лучших рабочих — слесарей, вахтовых, монтеров.
В феврале 1933 года приступили к откачке. Приток воды в шахте колебался от пятнадцати до восемнадцати тысяч литров в минуту. В сорокаградусные морозы, на скользких, два десятка лет пробывших в воде крепях люди подвешивали тяжелые многопудовые насосы. В узком стволе шахты среди нагроможденных труб, моторов, проводов и насосов молодые рабочие показывали чудеса эквилибристики и упрямства. От вечной сырости, постоянных авралов, нерегулярного питания, недосыпания люди простужались, тело покрывалось нарывами. Но бригаду уже охватил трудовой азарт, строительная лихорадка. Она должна была осилить воду, отогнать ее прочь от шахты.
После трех месяцев неимоверно тяжелой работы внизу удалось установить горизонтальные насосы. Началась очистка подземных выработок, а затем и проходка штреков. Насосы продолжали вычерпывать море воды. Малейший перебой — и шахты вновь затапливало. Мощные насосы застряли где-то в пути. Прошло лето, насосов нет. Старые насосы обессилены, они сипят, бурчат, тяжело дышат. Употребляя нечеловеческие усилия и изобретательность, водоотливная бригада заставляла их вычерпывать воду, чтоб забойщики могли работать. В шахте непрерывно гудят моторы, всюду сочится вода, по штреку к насосной камере бежит мутная река. Наконец в 1934 году прибыли насосы. Но тут выяснилось, что насосы присланы без моторов, и радость смыло без следа. Люди снова остались с глазу на глаз с бушующей водой. Старые насосы один за другим окончательно выбывали из строя. На рукоятках лебедок, на сборке стояли все — вплоть до главного инженера и исполняющего обязанности управляющего трестом. На этот раз вода победила.
... В первом полугодии 1935 года, после наводнения 1934 года, предприятия остались без самых необходимых материалов, оборудования, продовольствия. В феврале и марте прекратили выдачу сахара, не было папирос и мануфактуры, оставалась только ржаная и пшеничная мука простого размола. Тем не менее производственная активность не ослабла. В первом полугодии 1935 года предприятия Лензолота добыли золота больше, чем в первом полугодии 1934 года. Именно в первой половине 1935 года, несмотря на чудовищные трудности, мы по выполнению плана заняли первое место среди предприятий золотой промышленности.
Ударников становится все больше. Все относительно! Осенью 1935 года, когда писались эти строки, «отстающей» считалась бригада Вдовенко: она выполняла план «только» на сто процентов.
... Осенью 1934 года в Красную армию мобилизовали двух лучших молодых бригадиров на водоотливе. Мы получили для них отсрочки, но ребята категорически заявили, что возьмут расчет, если им не дадут возможности пойти в Красную армию. Сколько трагических сцен приходилось наблюдать во время призыва в Красную армию! Призывные комиссии выслушивали от забракованных ребят немало просьб, иногда со слезами. Молодые рабочие убеждали членов комиссии, что они идеальные кандидаты в армию. Меня, познавшего прелести царской армии, глубоко волновало отношение советских ребят к Красной армии.
... На Лену затесалось немало чуждых, антисоветских людей. Последыши разгромленных пролетарской революцией эксплоататорских классов, проникшие на Лену, не могли мириться с тем, что прииски увеличивают золотой фонд социалистической страны. Лишенная возможности действовать организованно, контрреволюционная мразь стала на путь партизанских актов вредительства.
Вредителей ловили, а рабочие становились более настороженными и работали еще лучше, чем раньше.
... Лучшие ударники, сильные духом социалистического соревнования, увлекали за собой рядовых рабочих.
Стало позорным прогуливать. До революции средний процент прогулов на приисках колебался от полутора до трех; в 1934 году он упал до половины процента, а затем и ниже. Слово «лентяй» стало равносильно пощечине. Члены бригады Романова сами предложили лишить своего бригадира звания бригадира. — Почему? Ведь Романов неплохо работал? — Нет, он опозорил себя, а значит, и бригаду. В выходной день он сильно выпил, на другой день не мог выйти на работу, а на третий день прогулял — теперь уже с горя. Романова лишили звания бригадира. Целый месяц он пробыл рядовым забойщиком, ходил сумрачный, но работал так, что все ахнули: «Ну и молодчина!» Бригада попросила снова назначить его бригадиром.
... В 1934 году было четыре слета ударников района. Особенно показательным был слет, на котором присутствовал секретарь краевого комитета партии Разумов. Он выступил с большой речью, рассказывал об успехах сельского хозяйства и промышленности Восточно-Сибирского края, одним из наиболее крепких звеньев которой являются Бодайбинские прииски. Речь Разумова заразила присутствующих энтузиазмом. В речах рабочих сквозили волнение и искренность, в голосе делегатов отстающих предприятий чувствовались слезы обиды. Разумов выразил мысль, общую для всего зала:
— С такими людьми можно говорить о проблеме и решать проблему Большой Лены.
Деловая часть слета, на которой разрешены многие животрепещущие вопросы, заканчивается товарищеским ужином в уютно декорированном клубе Ленинского управления.
Тост за вождя народа Сталина покрывают радостные крики и аплодисменты. Затем тост за присутствующего на слете руководителя восточно-сибирских большевиков Разумова. Высоко подняты бокалы в мозолистых руках — молодых и старых, порою скрюченных ревматизмом от десятков лет тяжелой работы в шахтах.
— Да здравствует...
На скамейке лысеющая голова Ганина. Улыбаясь, он
провозглашает тост:
— За здоровье старых горняков — ударников Лены,
ведущих за собой молодежь!
Сотни поднятых рук. Старики кричат «ура». Поднимаюсь на скамейку я:
— За здоровье молодежи Лены, которая, переняв опыт
стариков, заткнет их за пояс!
Снова «ура». Для примирения двух поколений «старик» Ганин целуется с ударником молодежной бригады Романовым, а я, «молодой» — со стариком бригадиром Клецковым. А еще через минуту Ганин уже на сцене под аккомпанемент двух баянов отделывает с женой забойщика такого «казачка», какого нигде не увидишь. Ганин тут же вызывает меня заткнуть за пояс его, «старика». Я пасую, предпочитая участ-вовать в общих танцах И в пылу танцев не замечаю, как, зацепившись за гвоздь, давно располосовал себе костюм.
Да и кто заметит!
Глава восемнадцатая
Застрельщиками социалистических методов труда явились рабочие Ленинского управления. Сначала началось соревнование отдельных людей, бригад. На передовиков смотрели косо, с иронической улыбкой:
— Ну-ка, ударяй, паря! Авось получишь в награду пиджак.
Но все меньше становится безучастных зрителей соревнования, оно увлекает тех, кто вчера косился на ударников. Уже соревнуются шахты с шахтами, и вот на высоком копре шахты № 12 поднимается красное знамя рудкома...
Ленинцы вызывают на соревнование артемовцев, светловцев. Рабочие других приисков — особенно Артемовского —стремятся даже перейти в Ленинское управление и не потому, что там заработок выше и жизнь лучше, а потому, что «стыдно все время быть в прорыве»... Громко прозвучал вызов светловцев ленинцам. Началось горячее соревнование.
Поздно вечером — телефонный звонок.
— Алло! Говорит Кыштымов[1]. Как светловцы?
— Неплохо. За пятидневку перекрыли вас на десять килограмм, — говорю я.
— Не может быть!
— Правда:
Не успеешь повесить трубку, как со Светлого — за двести пятьдесят километров — звонок:
— Как там у Лукьянова?
—У Лукьянова? Смотри, как бы на следующей пятидневке он вас не обогнал. Тогда тягайтесь лучше с артемовцами.
— Нажмем. Мы их обгоним!
— Ну, как на Светлом? — то-и-дело слышишь в шахтах Ленинского. — Не обогнали еще нас?
— Как там. поди дрожат ленинские! — довольные, говорят в шахтах на Светлом. — Вот у нас с фуражом заминка, а то бы мы уже давно...
Ленинцы светловцев так и не обогнали, но обогнали всех остальных и вышли на второе место.
Забойщики всего района постоянно были в курсе успехов Светлого. Радиорепродукторы изо дня в день передавали сводки, говорили об угрозах Светлого. Прямо война, да и только...
Война до дружеской встречи. На слетах ударников, в деловой и товарищеской обстановке лучшие рабочие и инженеры соревнующихся приисков раскрывали карты и советовались, как работать впредь, чтобы победить.
На смену ветеранам Лены идет молодая поросль, которой суждено с помощью новой техники затмить победы стариков.
В 1933 году на Лене появились первые техники-женщины, комсомолки Дранишникова и Курикшо. Обеих назначили сменными начальниками шахт Обычно в шахте всегда слышишь ругань. Бранятся добродушно, но по каждому пустяку, споткнулся тачкой о камень — брань, погасла спичка при раскурке — брань, уронил кайлу — брань. А в шахте Дранишниковой и Курикшо — тишина и благонравие.
Я давно пришел к заключению, что самые душевные и отзывчивые люди — это горняки. Очевидно, по контрасту с суровой и жестокой работой вырабатывается внешне грубый характер, за которым скрывается теплая человечность и деликатность. В шахте начальник — женщина, и в шахте нет ругани. Напротив, тут сплошная, подчеркнутая вежливость. Но как трудно дается это забойщикам! Однажды, когда я спустился в шахту и Дранишникова отошла в сторону, ко мне подошел знакомый бригадир и пожаловался:
— Мы устали, Виктор Васильевич. Это же хуже самого тяжелого забоя — не ругаться Ведь я сорок лет ругаюсь Ей-богу, сбегу. Увольте, больше не могу...
Позднее комсомолки работали в молодежной шахте. Здесь- было легче, так как ребята еще не имели сорокалетнего стажа. В 1934 году Дранишникова и Курикшо уехали во втуз. Работали они на Лене совсем не плохо.
За три года женский труд внедрился в основное производство. На лебедках, на вентиляторах, компрессорах, у турбин электростанций — женщины, на промывальных приборах, канатных электрических дорожках — женщины. Нет пока еще женщин-забойщиков.
Там, где работают женщины, оборудование чище и опрятнее, уютнее помещение, тщательней уход за механизмами. Мне запомнился такой случай. Обходя шахты Ленинского управления, я заметил в одном из лебедочных помещений на моторе остатки завтрака в газете и грязные тряпки. Молча указал я лебедчице на беспорядок. Как вспыхнули ее щеки! На обратном пути в лебедочном помещении все блестело, как на параде.
Весной 1935 года на самолете доставили фильм «Чапаев». Картину показывали в клубе Ленинского управления. Первыми «Чапаева» просмотрели ударники, а затем и остальное население ленинских приисков. Специальные поезда доставляли к началу сеансов тысячи рабочих и членов их семей с других приисков, не имевших своего звукового кинотеатра. Из Бодайбо на нескольких поездах проехали рабочие железнодорожного депо, пристани и сотни учащихся бодайбинских школ. Далекое управление Светлого послало на просмотр картины несколько десятков лучших ударников. Они приехали на лошадях.
Боевой фильм о боевом полководце стал ценнейшим подарком для ленских золотоискателей. Люди готовились к поездке в кино, как на большой праздник. И по тому, как смотрелась картина, какую общественную активность и приподнятость она вызывала среди стариков, молодежи, детей, стало видно, насколько изменилось сознание и умонастроение населения приисков. А среди этих людей, следивших, затая дыхание, за подвигами легендарного героя, тоже были герои. Впрочем, свой героизм, будничный и как бы само собой разумеющийся, наши герои не привыкли выделять. И понятно, почему: социалистический труд постоянно рождает героев. Эта мысль невольно возникла у меня, когда я увидел выходящую из кино группу забойщиков—участников нашумевшей у нас на Лене истории. О ней стоит рассказать подробнее.
В передовом забое штольни № 2 Красноармейского прииска обвалом засыпало одиннадцать забойщиков. Завал плотно закупорил штрек. О катастрофе тут же дали знать Ганину и мне. Бросив все, мы поехали на паровозе к месту катастрофы.
Склон горы, на который выходит из-под земли устье штольни, был залит электрическим светом. По тропинкам к устью штольни бежали рабочие, женщины. Работа вокруг остановилась. В штреке у завала толпы людей. Руководители шахты — сплошь молодые, малоопытные техники, впервые ставшие перед лицом тяжелой подземной трагедии, растерялись. Ганин и я приняли руководство спасательными работами на себя. Расставляя рабочих, освобождаем штрек от лишних людей.
Сначала надо узнать, живы ли те, кто остался в забое, и если живы, то немедленно дать им воздух. Забойщики работают без слов, быстро заканчивают крепление. Оно требует от людей большого искусства: малейший толчок, неудачно заведенная доска — и начинает ползти сыпучий, как гречиха, грунт.
Работу ведет знатный человек прииска, старик — забойщик Миндубаев. Методичны и быстры его движения, сухое тело в брезентовой спецовке напружинено и гибко Подручные Миндубаева, вслушиваясь в скупые приказания бригадира, быстро готовят материал.
Тем временем я распорядился приготовить длинную тонкую трубку, закупоренную на конце острой пробкой. Трубку осторожно забивают в навал. Сыпучий грунт поддается довольно легко. Трубка проникает все дальше. Вдруг остановка — пробка уперлась в камень, ее вытаскивают, чтоб ввести в другое место. Один, два, три, четыре метра— неужели нехватит? Должно хватить! Радостный крик забойщика выводит нас из оцепенения. Трубка сразу резко подалась вперед, еще мгновение—и она там. Люди живы и в полном рассудке — вытащили пробку. Уж слышны их голоса...
Мертвая тишина воцарилась. по эту сторону завала... И вдруг истерический крик:
— Иван Бонко! Бра-та-ан!.. Жив ли?..
То девятнадцатилетний откатчик Бонко, в момент завала случайно вышедший из забоя, кричит старшему брату. Их было в бригадной половинке три брата — два остались там. Юношу с трудом оттаскивают от завала и уводят наверх.
Трубка доносит нам имена сидящих в завале. Один... два... три... четыре... Девять человек. Двоих нет, в том числе и старшего Бонко. Погибли...
Чтоб не вносить паники, мы отвечаем по трубке, что остальные живы и находятся среди нас. Призываем к спокойствию, обещаем скоро прорыть проход, а пока что просовываем по трубке пузырьки спирта и электрический провод. У заключенных зажигается свет. Как это много — свет в подземелье и голоса товарищей, идущих на помощь!
Прокладывать ходок по сыпучке становится сам Миндубаев. Лежа на животе, он роет кротовую нору и тут же тщательно ее закрепляет. Забойщики гонят впереди него забивную крепь. Миндубаев каждую секунду рискует быть заваленным. Рядом с ним, прижавшись к крепи, сидит на корточках вызванный нами начальник самой большой и сложной шахты Шаповалов. Миндубаев все время сове туется с Шаповаловым. Время от времени они вылезают из дыры и туда лезет Ганин или я, проверять надежность выработки. Жутко в ходке с нависшими сверху тысячами тонн сыпучего грунта...
Долгие томительные часы идет борьба. Медленно, сантиметр за сантиметром подвигается выработка. С помощью труб вентилятора сидящим в завале подается свежая струя воздуха.
Непрерывный конвейер людей молча убирает породу навала, расчищая на всякий случай выход из ходка, круто идущего вниз. Час за часом отсчитывают стрелки часов. Но вот в ходке заминка.
Забойщик наткнулся на мертвое тело... В подавленном молчании тело выносят из ходка. Врач упорно применяет искусственное дыхание, хотя надежд никаких. Но никому не хочется верить в смерть.
Через час забойщик обнаруживает тело второго рабочего. Ноги погибшего придавлены толстым бревном. Шевелить бревно нельзя, иначе неминуем новый обвал. И Миндубаев, чтоб не волновать оставшихся в живых, которым скоро будет открыт ходок, снова засыпает труп товарища... По нему пройдут живые...
Из завала по трубке передают, что один не выдержал нервного напряжения — рвется вперед, мечется в узком пространстве и действует на психику остальных.
Кайла пробила, наконец, стенку навала. В еще незакрепленное отверстие бросается помешавшийся забойщик, не соображая, что ему грозит почти неминуемая гибель от нового обвала. Стремительным движением старик Миндубаев охватил его голову. Забойщик тяжело стонет, глаза его дико блуждают. Около него уже суетится врач. Еще немного— и спасенный приходит в относительное равновесие. Его уводят наверх, а остальные восемь сидят в подземелье еще два страшно долгих часа.
Мы в последний раз осматриваем выработку и разрешаем выпускать спасенных.
Только что наверху царило гробовое молчание. Но вот показывается голова одного спасенного, другого, третьего и на поверхности раздаются крики безумной радости. Десятки рук протягиваются к спасенным. Их обнимают, гладят, целуют. Последним — девятым — из завала выходит бригадир спасенных забойщиков старик Каллистратов с неизменной трубкой в зубах. Он, как и всегда, тащит за собой тщательно перевязанную связку забойного инструмента и даже огарок свечки.
— Вылезай, бодайбинский Шмидт! — кричат ему товарищи.
Шутка услышана и спасенным тепло и участливо говорят:
— Эх, наши челюскинцы...
Глава девятнадцатая
В августе 1932 года в Бодайбо прилетела жена с сыном. Отдохнув на юге, она сразу погрузилась в работу хирурга. Слава о женщине-хирурге М. В. Дзуцовой облетела прииски. Горняки, еще недавно считавшие зазорным лечиться у женщины-врача, стремились теперь попасть в ее искусные руки.
Все хорошо, если бы не крайне волновавший нас вопрос: вправе ли мы иметь детей? Кругом — у друзей, сослуживцев — дети росли, мужали, А нам не везло. Смерть двух детей, Постоянная боязнь за жизнь третьего, с трудом переносившего, климат, переезды с прииска на прииск — все это заставляло нас задуматься, а вместе с тем так хотелось детской ласки... Решили: пусть родится, постараемся сохранить. Главзолото обещало скоро дать квартиру в Москве, перевезу туда жену с детьми.
Однажды, когда я объезжал прииски, мой заместитель инженер Крапивин разыскивал меня по телефону и просил срочно приехать.
В чем дело? — спросил я.
Надо. Приезжайте скорее.
Я понял, что жене плохо, если она просит приехать. Мчусь на станцию к пассажирскому поезду. Кажется, что он идет слишком медленно. На станции Громовской снова зовут к телефону:
— Скоро приедете? Давайте скорей.
На станции Андреевской — опять просят к телефону.
— Поздравляю с сыном. Все благополучно.
Пытаюсь расспросить подробности, но слышу гудок паровоза. Выбегаю на перрон — куда там!—вижу только хвост поезда...
Еду следом на лесовозной площадке товарного. Наконец я дома. Тщательно смахиваю с себя дорожную пыль. В комнате полумрак от зеленого абажура настольной лампы. В кроватке лежит одиннадцатифунтовое, сморщенное, красное, совсем некрасивое существо. Сын...
Побежали дни. Из красного комочка вырос маленький человечек с голубыми глазенками и длинными-длинными ресницами. Человечек начал ходить, лепетать. Привязчивый и ласковый, он стал баловнем всех друзей. И чем больше он подрастал и становился лучше, тем больше сжималось сердце от боязни его потерять. Как и старший, он с трудом переносил климат и недостаток витаминов.
Старший поступил в школу. Вскоре они оба заболели гриппом, затем корью, снова гриппом. Надо скорей увозить детей в более мягкий климат.
В начале 1935 года я получил отпуск. В конце марта мы всей семьей вылетели из Бодайбо на трехмоторном самолете.
Поздно! Дети носили в себе инфекцию коклюша. В Москве, в маленькой, тесной комнатушке тяжело переносил болезнь малютка. У его кроватки перебывали лучшие специалисты. Но никто не мог предотвратить и остановить осложнения на легкие. Не помогли бесчисленные подушки кислорода и весь арсенал медицины.
С ясными глазенками, почти до конца в сознании, без стона, испуганно моля о помощи: «папа! папа! мама!..»— ребенок задохся в приступе кашля.
Нет уже нашего мальчика... Неуютно и пусто стало кругом. В пароксизме отчаяния, на грани безумия мать.
Почему так много?.. Один за другим три сына, три радостных мальчика унесены смертью...
Скупые, тяжелые, не облегчающие горе слезы. На столе груда телеграмм от друзей, слова участия и ласки.
И опять, как и тогда, после смерти первых двух — только работа может помочь забыться, осознать, что ты не одинок, что ты нужен. Просиживая ночи напролет, я закончил давно начатую работу: полный курс разведки и разработки россыпей открытым и подземным способом.
Литература по разработке россыпей мускульным способом очень бедна. Огромный опыт, накопленный нашей золотой промышленностью, никем не систематизировался. Работы, как правило, велись по шаблону, установленному в данном районе десятилетиями и передаваемому из поколения в поколение от одного практика к другому. Я поставил своей задачей систематизировать этот опыт, подвести под него теоретическую базу, аналитически подойти к освещению сложных вопросов разработки.
Я часто вспоминал последнюю беседу с покойным учителем — профессором Рязановым: «Не забывайте, Виктор Васильевич, как вам трудно было учиться из-за отсутствия литературы по россыпному золоту... Копите опыт... Вы любите это дело и, если захотите, сумеете дать нужную книгу по разработке россыпей».
Работу, которую я начал много лет назад, я и заканчивал теперь после смерти ребенка.
Книга окончена, сдана и принята редакцией. Еще в вагоне поезда, по пути из Иркутска в Москву, я узнал, что мою работу на Алдане и Лене отметило правительство. ЦИК СССР постановил наградить меня орденом Трудового Красного Знамени.
Радости и счастью, кажется, не было предела. В вагоне сразу стало душно и как-то тесно. Жена, громко смеясь, жала мне руку, Витим был в восторге и страшно гордился отцом. Ну, а сам отец?.. Трудно описать его чувства, тем более сложные, что орденоносец, откровенно говоря, не ожидал столь высокой награды. Ведь Лена в 1934 году только-только выкарабкалась на дорогу. Еще так много осталось сделать!
Спать в поезде я уже не мог. Хотелось сделать что-нибудь исключительное, необычное. А в Москве корреспонденты «Комсомольской правды», «За индустриализацию», «Известий» просят меня, чтоб я отметил наиболее выдающиеся случаи из моей работы. Невольно краснею и чувствую себя неловко.
Мне кажется, никто не может рассказать о своем героизме, ибо в том огромном порыве коллективного творчества, который охватил сейчас нашу родину и всех ее тружеников, разве можно выделить собственный героизм, возникший в едином общем порыве? По-моему, нельзя. Я так и понял, что награждение меня и Ганина — это награждение всего нашего коллектива, борющегося и побеждающего на ленском золотом участке социалистической страны.
Мне особенно понятны были слова А. П. Серебровского, сказанные им президиуму ЦИК'а при вручении нам орденов и повторенные затем на банкете, данном орденоносцам: рабочие и специалисты золотой промышленности, в ответ на постановление правительства о награждении ряда работников орденами, еще больше усилят нажим и обеспечат в этом году добычу золота не менее десяти процентов сверх плана.
Банкет. Нарком Орджоникидзе разрешает мне сказать пару слов от Лены. Я подтверждаю, что рабочие и специалисты Ленского треста ответят правительству десятипроцентным повышением добычи сверх плана.
— А сколько это будет? — спрашивает нарком. Я называю цифру.
— Мало! Давай столько-то, — говорит смеясь Орджоникидзе.
Я отвечаю, что это невозможно, и делаю тут же коротенький подсчет.
Выпил, а арифметику помнит!
Товарищ Серго! — говорю я. — Если какой-либо трест Главзолота подкачает и не обеспечит перевыполнения всей золотопромышленностью плана 1935 года на десять процентов, мы беремся из кожи вылезти вон, но перекрыть этот прорыв. Но я, признаться, потому смело даю такую гарантию, что этого не придется делать.
Все смеются.
И вот, окрыленный высшей правительственной наградой, я решаюсь на последний шаг, осуществить который мне роковым образом мешали обстоятельства. Выйдя из партии, я очень скоро понял свою ошибку в оценке нэпа. Я решил показать себя на работе и затем просить о возвращении в партию.
На Лене, когда я, считая, что меня уже знают достаточно, собрал рекомендации (это было не так просто за недостатком коммунистов с большим партийным стажем), предприятие передали в концессию — и для меня, как управляющего прииском, переданным в концессию «на ходу», путь в партию был тогда закрыт.
На Алдане после четырех с лишним лет работы я подал заявление о возвращении в партию. Но заявление рассматривалось в момент тяжелой, почти смертельной моей болезни. Когда я выздоровел, меня снова перебросили на Лену. Туда и были направлены документы, но они погибли вместе с потерпевшим аварию самолетом.
В 1933 году началась партийная чистка, прием в партию
был прекращен.
Я решил просить Центральный Комитет о разрешении
вернуться в партию, полагая, что многолетней работой на
приисках я искупил ошибку. В апреле, страшно волнуясь,
пишу и подаю заявление:
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. Н. И. ЕЖОВУ
Награжденного орденом Трудового Красного Знамени главного инженера треста Лензолото — Селиховкина, Виктора Васильевича.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В 1919 г. на фронте я вступил в партию; в 1923г., будучи студентом Горной академии, я вышел из партии, не поняв новой экономической политики и не считая себя вправе с этим непониманием оставаться членом партии. За все последующие 13 лет учебы и инженерной работы я стремился каждый свой шаг сочетать с директивами партии, не отделяя себя от нее. Попытке вернуться в партию на Алдане, где в течение пяти лет я был главным инженером, помешала переброска меня на Лену, а посланные вслед за мной материалы о вступлении в партию погибли с самолетом незадолго перед прекращением приема в партию в связи с чисткой.
Величайшим счастьем, завершением моей двенадцатилетней работы в производстве по строительству новых и восстановлению старых предприятий золотой промышленности, которой я стремился загладить юношескую слабость и интеллигентское малодушие, приведшее меня к выходу из партии, было бы обратное возвращение в партию.
Оценка моей работы по строительству социалистической промышленности дана решением правительства о награждении меня орденом.
Все мои успехи были возможны только потому, что я все время работал под руководством партийных организаций, выполнял и активно помогал выполнять все решения партии.
Я прошу ЦК ВКП(б) дать мне возможность вернуться в ряды партии, чтобы я еще более активно мог работать в рядах авангарда борцов за построение социалистического общества.
Вероятно, я никогда еще не волновался так, как волновался, ожидая решения ЦК. И вот оно получено…
На короткую минуту, казалось, захолонуло сердце.
Я снова в партии. Это же второе рождение!
Сейчас только жить да жить!